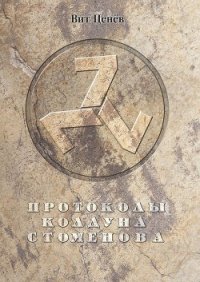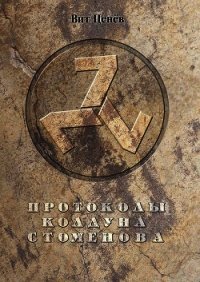Протоколы колдуна Стоменова часть II - Ценев Вит (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью TXT) 📗
Мне казалось тогда, что только один наш путь правильным и выходит. Самым лучшим, единственно верным. И лишь по смерти уразумел я, что к посмертной благодати, легкой и светлой, отрадной и покойной, многие пути ведут. Разные пути верными будут.
Можно праведником прийти сюда, а можно и грешником. Можно в силе большой быть, а можно в слабости отчаянной. Можно злом быть, а можно и добром зваться. Можно среди тысяч людев быть, а можно отшельником сделаться. Да все одно, к наилучшему началу посмертной жизни прийти всегда возможно. Лишь бы одно выходило, чтоб дух человечий над плотью своей восцарствовал безраздельно.
Вот и выходит, что многие, коих злом называете вы, в смертном царстве благодатствуют, ибо духом своим много крепче тела стались. А многие иные, кого боготворите, здесь муку принимают великую, ибо плотью своей тленной отягощенные остались. А вот тем, кто на себя руку наложил, все пути к одному ведут: к страданию нечеловеческому. Я таковых тут много знаю.
Гаршин, например, Всеволодичка, очень сильно мается. А почему так вышло у него?! Так забрал, букашечка этот бумагомарный, на тот свет с собой все, что только унесть с собой можно. Умом болен был? Болен. Телом хвор? Хвор. Бессонной маялся? Маялся. Так еще и учудил, дабы избавило его смертью: сиганул с высокого верху под лестницы. Аккурат, в пятый день и помер от того. Думал, поди, что послабится ему, занебудется навечно? А оно вон как вышло. Вот и майся теперь веками вечными, пока людишки земные не забудут по тебе думу думать.
Или Никола Успенский, который ножичком перочинным горлушко себе вскрыл. А ведь с Толстым знавался, с Тургеневым. Учености большой человеком бывал. Галич туточки, все по стрекозе какой-то убивается шибко. В петлю залез, человечишко нерадивый. Много их тута мается, мучеников вечных. За тщедушность свою расплачиваются они неоткупно.
Из самоубивца самого верного хранителя содеять себе на службу можно, да только больно постыло с ним дело иметь. Мне девятый Андрюшенька мой особливо дорог был, вспомогал я ему, чем тока можно. Но это кому как будет. Николе вот первенец его шибче всех иных на сердце лег. Который тебя от случайности бережет, значит. А иногда и переменится все: в силу войдешь большую, вот и отдалится от тебя один, а другой, поперек, сблизится.
Мне однажды Николе возразить удумалось, что шестой душе ненадобно быть вовсе. Да только осерчал Никола на это крепко, разгневался. Должно, говорит, шестой душе с тобой статься! И иной любой душе приглядывать за тобой должно. Хоть воды за триста верст вокруг нету, а все одно, должно подле тебя душе утопленника ошиваться. Тебе не надо, а ей как раз послабление будет, что и захочешь сам утопнуть, а не сможешь, потому как сушь кругом. Вот и порадуй душеньку-то, подле себя удерживая, а она тады и служить ретивее зачнет.
Вишь, какая наука-то хитрая выходит? Ну, а по смерти уже разбредаемся мы порознь; и ни нам в них нужды более нету, ни им в нас тепереча послабления не найти. Одно и содеешь, что сородичу своему хранителя передашь, будто по наследству. А коли не нужон нашему,то и за сторонним каким человеком поглядывать хранителя поставишь — пущай оберегает. С одним только условием, что человек этот непременно к царству мертвому благоволить должон. Тогда и хранитель ему дастся.
Ну а кады хранитель с умением дается, то и ведать о нем человеку не всегда нужда есть. У развилки повернул в любую сторонку, а свезло тебе так, как будто верно повернул. На гулянье пойти раздумал, а там и беде случиться. На корабль запоздал, а оный и потонул.
Темной ночью ходить, а и не сыщется на него разбойника с умыслом. Так вот и минует его, о чем подчас и сам не ведает. И у него в земной жизни все ладится, и хранителю его послабление выходит. А если отметил удачу свою человек этот — знаком каким нарошным, вещью особливой али обережной, то и тем паче. Закрепится союз их крепко-накрепко.
Одна беда только, что воротятся люди от царствия смертного. Зрить его не хотят, слухать про него не желают. Никола так сказывал: кто за жизнь свою дрожит, тот смерти скорой ищет, а кто смерть почитает, тот жизню продлевает. Потому и выходит, что и тогда я все верно передал, и теперь истинно говорю. Положи в гроб покойнику предмет свой дорогой, и он тебя, покойничек, в самой скорости за собой утянет. Но коли в смерти силу сыскать уразумел, то хоть ногти свои остриги в гроб — не только не сгинешь, а и укрепится более жизня твоя, ибо служить тебе будет справно душа посмертная.
Потому и до сорока дней у близкого самого сородича одежа от покойного надевана была — единились души в разноцарствии, близость особую обретали в противоположности своей. Теперь вечно сородичу о покойничке служить велено, а душе умершего — о живом печься. Вот так.
Вы меня судить загорелись, да только неведомо вам, что о каждой душе смертной, моей силою жизни лишенной, я до самого последнего часа своего заботу держал. Будто баба за дитями своими ухаживает, нужды ихние утоляет. И по смерти вашей плотской крупицу от такого жалкую получить, как я держал, — сами бы в ножки распоследнему извергу упали, верным рабом его сделались на веки вечные. Ибо не на земле истинная жизнь идет, а в царстве посмертном, когда дух народится из плоти вашей. Когда народите своего, тогда и рассудимся с вами, кто вернее будет.
Горбун
Горбун остановился — его горб вздымался от тяжелого дыхания. Все это время он стоял, не пошелохнувшись: не ходил и не опирался на стол, как он обычно это делал. Глаза его хоть и смотрели на меня, но будто не видели ничего: так бывает, когда человек задумался, как говорят, «ушел в себя». А я, замечая, как выламывается его нога, испытывал на теле своем гадливое ощущение уродства. И страшно смотреть, и не хочешь смотреть, но только некая сила будто подталкивает тебя взглянуть еще разик. Доводилось ли вам видеть человека, у которого начисто не было носа? Приходилось ли видеть человека с огромным наростом на носу или на веке? Ловили ли вы себя на том, что хотите посмотреть на это еще раз, хотя и тошно вам становится от этого?
Горбун очнулся от своей сомнамбулы: он подошел к столу, навалился на него и посмотрел на меня. Взгляд его выдавал усталый вопрос, обязывающий к послушному согласию. Как будто нерадивому ученику долго-долго объясняли урок, а потом нетерпеливо спросили…
— А почему Галич? — вспомнил я. — Галич погиб, кажется, от удара током. То ли случайно, а то ли кэгэбэ ему подстроило, я читал об этом. А он говорит, что повесился. И стрекоза, что за стрекоза, при чем здесь стрекоза? Что-то тут не так.
— Ну, ему там, наверное, повиднее нашего будет, ась? — насупился горбун. — Может, это и не тот Галич? Про того я тоже слухом слыхал, правда, без подробностей. Что пристал? Раз сказано тебе, что повесился, значит, повесился. И про стрекозу никакую не знаю: это тебе говорится, а не мне. А я всего лишь подслушать могу говоренное. Ну, могу у хранителев своих попытать. Только вряд ли им нужда будет до галичей и стрекозов твоих.
Я вот сейчас о ином думу думаю: может, укрепляет он себя деяниями нашими? Коли дума о нем множественной станет, то усиление ему там выйдет? Разные людишки думать о нем начнут, а в мире смертном это только и надобно, ибо тот свет мыслями земными питается.
Вот и рассуди: поворотится у иного человека дума его в направлении верном, к заветам и наставлениям смертной силы магии, к воспитанию и укреплению духа своего, и станется для этого человека хорошо. Ибо тому, кто готовит дух свой к благостному бессмертию, не обойти признания и примирения с часом смертным для плоти своей. А оное для смертного царства и надобно. Чтоб ты не отворотился от него, а поперек, уважил и попомнил его да попекся о душах посмертных. Тады и для земной жизни хорошо станется, и для смертной.