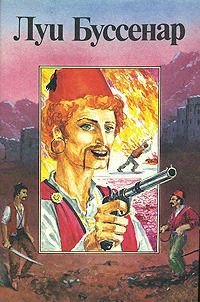Сын Неба - Смирнов Леонид Леонидович (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью .TXT) 📗
А в квартире меня уже ждало новое происшествие.
Происшествие довольно банальное, вряд ли представляющее судьбоносную значимость, подобное не раз уже происходило, произошло и на этот раз: пьяный Виктор Михайлович Баранов заснул в туалете. Но на этот раз он заснул, стоя ногами на унитазе. В позе орла на вершине скалы. Естественно, при наступлении сна он потерял равновесие и упал.
Рядовой для алкаша случай, совершенно бытовой, обычный. Но на этот раз он имел два необычных последствия. Первое: упал Михалыч так, что высадил головой дверь. Дверь сорвало с крючка. Михалыч валялся на полу, из головы сочилась кровь. Я кинулся его поднимать, оттащил в ванную комнату, стал эту кровь замывать.
И второе последствие. Прискакали Хихичка Якимова и Капитоньева.
– Вызовите… Ноль три надо набирать… – слова у меня слетали с языка сбивчиво, несуразно. Очевидно, я был вне себя – не многовато ли происшествий за один день?
Хихичка пошла к телефону.
– Ноль два надо набирать! – это был голос Капитоньевой, я не придал тогда значения ее словам…
14. Не знаю, какой из телефонов Хихичка Якимова набрала первым, но служба «02» приехала быстрее, чем служба «03».
– Он его по голове! Дверью! С размаху! – вопила Капитоньева во всю мочь, но только когда менты кинулись меня хватать и надевать мне наручники, я догадался, что она – обо мне.
Подоспел и старый знакомый – старший лейтенант (простите, уже капитан) Добрецов:
– Это он подбрасывал Баранову… это… четырнадцать дохлых мышей! Или даже шестнадцать! А теперь! Это! Дверью его! Ах, негодяй!
– Он Виктора Михайловича, хи-хи, Викторией Михайловной звал, хи-хи…
Два бомжа из питомцев Волчкова с недоумением смотрели, как меня уводят менты, сажают в воронок. Тот, который поменьше, даже дернулся было в мою сторону, но громила его удержал.
Почему-то я чувствовал твердую, спокойную уверенность в себе. Я будто наблюдал за всем происходящим со стороны, сверху откуда-то. Вот меня выводят из парадной, вот сажают в воронок, вот мы едем. Вижу, как мы стоим перед светофором, как пересекаем широкую площадь. Вижу, как водитель тормозит перед воротами с железной решеткой наверху. Вижу себя, сидящего между двумя ментами. Все так спокойно, буднично. И что мне волноваться? Проспится Баранов, объяснит, что я ни при чем. А в ситуации с бомжами волчковскими все происшедшее – это даже очень кстати.
Я не хотел думать ни о чем, происходящем вокруг. Я думал об Ульрике.
15. Было это в далеком 1990-м году. Мы, двое начинающих тогда художников, Юра и я, страшно бедствовавших, пытались продать свои работы. Продать было сложно. Еще сложнее было купить краски, кисти и холсты. Экономика, строившаяся на принципах дефицита, не позволяла ничего приобрести без борьбы. Вроде бы, все было дешево, но попробуй достань.
Но уже тогда, в глубине далекого 1990 года, мы видели свое будущее. Мы представляли свои выставки через несколько лет по всему миру. Мы даже сочинили себе будущих жён: Юрину звали Ингрид, мою – Ульрике. У Юры – шведка, у меня – норвежка. Статус иностранца в изувеченной коммунистическим режимом стране был выше любого другого статуса. В те годы любой иностранец воспринимался нами пришельцем с другой планеты: он может свободно путешествовать по миру, он может свободно творить в любом жанре, в любом виде искусства, он богат, наконец, он может себе позволить не бесконечно думать о деньгах, о деньгах, о деньгах, а думать о творчестве. Это мы, совки, за паршивые восемь долларов (тогда это было сто шестьдесят рублей) должны были вкалывать, как Золушка, целый месяц. И с такими деньгами Юра подойдет к Ингрид, а я – к Ульрике?
Нет! Мы будем выставляться на Западе, выставляться с успехом, с блеском. И вот наступает оно, светлое бессовковое будущее, и на своей выставке (в Лондоне, в Париже, в Осло, в Стокгольме) я стою у любимой своей картины и жду. Я знаю: сегодня придет Ульрике. Мы с этого дня – навек вместе. Она будет моей женой. Мы будем жить в маленьком домике (не коммунальном) на фиорде, снаружи будет снег и вьюга, а внутри – тепло, много света, я с огромным наслаждением наношу краску на холст, Ульрике сидит у камина, вяжет на спицах для меня новый свитер или читает мне вслух. Норвежский я освою. Потом мы смотаемся на недельку в Париж, на очередную выставку. С успехом, с блеском.
Но это будет после. Сначала будет та, первая выставка, на которой мы встретимся. Я ни с кем ее не спутаю. Она медленно будет проходить мимо картин, и когда подойдет к той, моей любимой, я спрошу ее:
– Вы – Ульрике?
Я знал, что эта встреча будет, я ждал. Ульрике тоже нагадали, что муж у нее будет художник, что жить они будут счастливо, только вот… Извини, Ульрике, сказала ей мама, отложив гадальные карты, но он будет…
Она сделала паузу, а потом выдохнула:
– Он будет – совок.
В ту эпоху мы были не россиянами, мы были совками. Не знаю, кто ввел в обращение этот термин, означавший, видимо, сокращение от слов «советский человек», но термин гениально соответствовал сути, обозначая не только советского человека, но и советский строй, и советское государство, и сам уклад жизни в совке. Конечно же, для совка отхватить такую невесту, как Ульрике, – это покруче, чем выиграть «Волгу» по государственной лотерее или получить от государства бесплатно квартиру.
– Ой, мама, не хочу за совка, – застонала Ульрике, но стонать было поздно. Или рано.
– Ничего, доченька, – успокаивала ее мать. – От судьбы не уйдешь. Совки тоже разные бывают, а те, которые попадают сюда, к нам, непростые совки, они – умны, деятельны, талантливы. Это может быть вариант покруче, чем многие из наших.
И Ульрике успокоилась. И стала ждать меня. И когда она пришла на выставку, она подолгу останавливалась у каждой картины. И когда подошла к той, моей любимой, я не сомневался, что это подошла именно она, я не мог ее спутать ни с кем. И я спросил:
– Вы… Вы – Ульрике?
И она поняла, что это – я. Что сбылись предсказания матери, что сейчас осуществляется ее вселенское предначертание: всегда быть со мной. Она узнала меня. И она спросила с сильным акцентом, но по-русски: