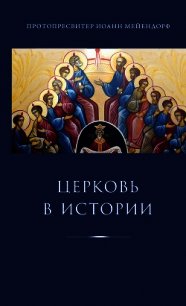Бытие как общение. Очерки о личности и Церкви - Зизиулас Иоанн (полная версия книги .TXT) 📗
Позиция Афанасия, принципиально важная для борьбы Церкви с арианством, была прямым следствием из онтологии общения, сформулированной в традиции евхаристического богословия, объединяющей Игнатия, Иринея и Афанасия. То, что Афанасий принадлежит скорее этой линии, нежели александрийской катехетической традиции, хорошо видно при общем взгляде на его богословие. Для наших целей было бы полезно остановиться на том, как он пользуется онтологическими идеями в своем противостоянии арианству. Интересно отметить те места, где его мысль прямо обязана онтологическим находкам Игнатия и Иринея, о которых мы вкратце сказали выше.
В борьбе с арианством Афанасий развивает онтологию, которая характеризуется следующими основными свойствами. Прежде всего, он четко различает субстанцию, которую признает первичной, и волю [127], утверждая привычный для греческой мысли примат бытия. Это различие позволяет ясно показать, что в отношении к Богу бытие Сына и бытие мира принципиально не совпадают. Бытие Сына принадлежит сущности Бога, в то время как мир принадлежит Его воле. Это различение было в первую очередь востребовано для борьбы с арианством, однако его значение выходит далеко за рамки локальной полемики. Его более широкий смысл заключен в том, что разграничение сущности и воли позволило Афанасию вскрыть герметическую онтологию греков, которая привязывала Бога к миру посредством онтологической сингении. Тем самым он избежал ловушки, в которую угодили Иустин и Ориген, хотя ему это удалось не вследствие отмежевания от онтологического мышления, а наоборот – через возведение его до той высшей формы, которой требует само его существо [128]. «Быть» – не то же, что «хотеть», а значит, и не то же, что «действовать». Это утверждение, скорее греческого, а не еврейского свойства, оказалось средством защиты библейских корней Евангелия от опасностей греческой онтологии. В результате бытие Божье осталось свободным от мира, причем так, что греческое сознание сумело понять его как бытие, не связанное узами онтологической необходимости с творением.
Но и это еще не все. Связав бытие Сына с самой Божественной сущностью, Афанасий пересмотрел и понятие сущности. Здесь особенно заметно, что его размежевание с космологическим мышлением Оригена и Иустина означало одновременно восприятие евхаристического богословия Игнатия и Иринея. Сказать, что Сын принадлежит Божественной сущности, – значит утверждать, что сущность, практически по определению, есть отношение. Существовал ли Бог когда-либо без Своего Сына? [129] Этот вопрос имеет исключительное онтологическое значение. Слово «когда-либо» в этом предложении употреблено, конечно, не во временном, а в логическом или онтологическом значении. Оно относится не ко времени в Боге, а к природе Его бытия, к Его бытию как бытию. Если бытие Бога по природе есть отношение и если оно может быть обозначено словом «сущность», не должны ли мы из этого почти с неизбежностью заключить, что, принимая во внимание первичность бытия Божьего для всей онтологии, сущность, постольку поскольку она означает высший характер бытия, может мыслиться только как общение? [130] В наши намерения не входит разобраться, означает ли эта мысль революцию в трактовке сущности античной традицией и есть ли в греческой онтологии для этого основания, которые могли выпасть из поля нашего внимания [131]. И все же из краткого обозрения учения св. Афанасия можно сделать вполне ясный вывод, что специалисты, применявшие для толкования святоотеческого тринитарного богословия различие между «первой» и «второй» сущностью [132], на самом деле ошибались. Как мы потом еще раз покажем в кратком обзоре каппадокийцев, такое различие не имеет смысла и создает серьезные проблемы при анализе соотношения сущность – лицо в рамках троичного богословия.
Важнейший вклад Афанасия в христианскую онтологию состоит в следующем. Воспользовавшись понятием общения, приобретшим онтологическое значение в рамках евхаристического подхода к бытию, он развил мысль о том, что общение принадлежит не уровню воли и действия, а самой сущности. Таким образом, оно утверждает себя как онтологическую категорию. Это был значительный прогресс на пути к онтологии, выстроенной на библейских предпосылках, решающий шаг в направлении христианизации эллинизма. Однако, не умаляя величия Афанасия, его значимости в истории богословия, мы обязаны признать, что он в своей онтологии оставил нерешенными целый ряд фундаментальных проблем. Одна из них касается онтологического статуса, который следует присвоить бытию, имеющему свой источник не в сущности, а в воле и действии, – иначе говоря, творению. Если бытие мира есть произведение не сущности Бога, а Его воли, то в чем заключается его онтологическое основание?
Если мы скажем, что это основание есть воля Божья, то не возобновляется ли тогда риск приписать воле Бога онтологические черты и тем самым практически обессмыслить различие, на которое указал Афанасий в полемике с арианством? Это сложнейший и в то же время фундаментальнейший вопрос: не предпочесть ли классический античный онтологический монизм как более разумную альтернативу христианской онтологии, основанной на онтологической инаковости Бога? Здесь возникает новая проблема: способна ли эта инаковость иметь онтологическое содержание и может ли онтология опираться на нечто большее, чем идея тотальности? Это до сих пор в значительной степени открытый вопрос [133], хотя первая попытка дать на него ответ была предпринята очень давно, еще св. Максимом Исповедником, когда он применил к нему идею экстасиса, заимствованную у Псевдо-Дионисия Ареопагита (радикально ее преобразовав).
Вторая проблема применительно к основаниям онтологии св. Афанасия связана с бытием Самого Бога. Онтология Афанасия, как мы видели выше, опирается на положение, что между Богом и миром существует отношение инаковости, связанное с тем, что бытие мира утверждено волей, а не сущностью Бога. Использование понятия «сущность» в этом значении было неотъемлемой частью развития библейски окрашенной онтологии. Но как быть тогда с инаковостью внутри самой сущности Бога, которая следует из слов Афанасия, что Сын «всегда» принадлежал бытию Бога? Афанасий показал, что онтологическая инаковость есть неизбежный результат различия, которое он проводит между природой и волей, но он не говорит, в какой мере «внутреннее» общение в пределах единой сущности допускает инаковость на онтологическом уровне.
На такой фундаментальный вопрос невозможно ответить без дальнейших уточнений развитой в рамках евхаристического подхода к онтологии и затем примененной Афанасием идеи соотносительной сущности. Это разъяснение станет великой заслугой каппадокийских отцов, и мы переходим к краткому их обозрению.
Одной из трудностей при построении ясного богословия общения было то, что сущность как онтологическая категория не имела четко выраженного отличия от понятия ипостаси. Следует безоговорочно признать, что для Афанасия «усия» и «ипостасис» означают совершенно одно и то же [134]. И если он хотел говорить о «внутренней» инаковости в пределах одной сущности (т. е. об инаковости, не опирающейся на волю), то как бы это он мог выразить? Каждому, кто изучал этот период, известно, какая терминологическая путаница могла тогда возникать и какие недоразумения она порождала. Понятие «лицо» отдавало савеллианством и для многих было онтологически невнятно, для других уже термин «ипостасис» окрашивался в тона тритеизма. Очень важно поэтому отметить, что решение, найденное каппадокийцами, ознаменовало новый этап в переосмыслении греческой онтологии и формировании онтологии христианской.