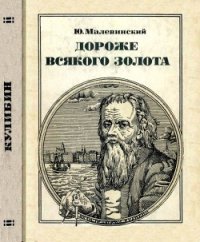Ведьмы и Ведовство - Сперанский (Велимир) Николай Николаевич (бесплатная регистрация книга .TXT) 📗
Но если обратиться к литературе II века по Р. X., когда наука гордилась уже именами Аристотеля и Архимеда, Эвклида и Аполлония, Гиппарха и Птоломея, то, вчиты-ваясь в нее, мы постепенно погружаемся в ту атмосферу, которую обычно принято именовать средневековой. Трепет перед чудесным и в то же время жажда его и безграничная в него вера – таков идущий от нее удушливо-тяжелый запах. Им сильно веет даже от трудов таких светил тогдашней мысли, как Плутарх, как Эпиктет или как Марк Аврелий. Когда ж берешь литературные произведения, которые ходили по рукам в широких кругах образованного общества той эпохи, то останавливаешься в окончательном недоумении перед вопросом, как за почтенное число столетий, протекших со времени Фукидида и Аристотеля, умственный уровень верхних слоев древнего мира, вместо того, чтобы подняться, успел упасть так глубоко? В одном из своих диалогов Лукиан изображает нам собрание профессоров философии в доме богатого их мецената, где гости и хозяин усердно угощают друг друга рассказами о чудесах, свидетелями которых они якобы были в жизни. Тут есть волшебники, которые ходят по водам, как по суше, которые носятся по воздуху, силой своих заклинаний сводят месяц с неба или приказывают всем гадам определенного умения предстать перед их очи и потом сразу одним дыханием своих уст обращают их в пепел; тут есть явление гигантской огненной Гекаты, давшее рассказчику случай заглянуть в мрачные области Аида; тут есть изгнание бесов из человека и из занятых ими зданий – одним словом, диалог этот представляет сборник историй, вполне соперничающих по своей таинственности с теми, какими позже упивались читатели Logonda Aurea генуэзского епископа Иакова. Конечно, можно было бы предположить, что Лукиан преувеличивает степень суеверности своих ученых собратьев, что он рисует на них карикатуры. Но собственные писания некоторых из них свидетельствуют о противном: по фантастичности они в иных случаях оставляют за собой самые невероятные анекдоты Лукиана. Разве не прямо в глубину средних веков нас переносит следующий духовно-назидательный рассказ благочестивого Лукиано-ва современника Элиана? Один бойцовый петух в Танагре был тяжело ранен в ногу. «Движимый, без сомнения, тай-ным внушением самого бога (Асклепия), хромая, он идет к его святилищу. То было утро, когда пелся Асклепию пэан. Петух становится в ряды хористов, он занимает между ними место словно по указанию самого регента; и вот он принимается со всеусердием петь следом за другими, причем ведет свой голос, не сбиваясь с такта… Стоя на одной ноге, он протягивает другую, которая была подбита, как будто показывая ее богу и обращаясь к нему за помощью… Он] воспевал Целителя изо всех сил и умолял послать ему здо-ровье… Асклепий внял ему, и наш петух еще раньше пси лудня стал выступать на обеих ногах, хлопая крыльями, делая крупные шаги, подняв высоко голову и потрясая гребешком, как гордый гоплит; так он являл собой свидетельство, что божественное попечение Асклепия прости-рается даже на животных». И разве не средневековым] настроением проникнута картина жизни чрезмерно «бо-гобоязненных» людей, которую оставил нам Плутарх.
Такие богобоязненные люди молятся пред образками богов из камня, бронзы или глины, целый день ходят с лавровой веточкой во рту, утром, вымыв тщательно руки, кропят себя свя-той водой, через короткие промежутки времени производят очищение всего своего дома, зовут к себе знахарок, которые окуривают их серой и спрыскивают водой из трех ключей, налитой на бобы и соль; при всяком сне они бегут к снотолкователям, чтобы узнать, каким богам или богиням им следует по этому случаю молиться, каждый месяц ходят с женой – или когда той что-нибудь мешает, то с нянькой – и с детьми к орфеотелестам, чтобы себя святить. Когда у такого богобоязненного человека мышь прогрызет мешок с мукой, он спрашивает истолкователя,;] что ему делать, и если тот посоветует ему заштопать мешок, то он все же вместо этого решает принести жертву; если, завязывая сандалии, он вдруг порвет ремень, то он трясется от страха и не знает, куда ему деваться. Когда его постигает самое маленькое несчастие, то он садится и стонет, что он стал ненавистен богам, что боги его карают; он не пытается бороться с постигшей его бедой, чтобы не стать мятежником, отказывающимся претерпеть удары наказующей руки; он не пускает к себе друзей, пришед-ших навестить его («оставь меня, ненавистного богам и духам человека, нести заслуженное наказание»); он, облачившись во вретище, сидит на улице перед своим домом или, перепоясав-шись грязною ветошкой, нагой валяется в навозе, исповедуясь в своих великих и малых прегрешениях, что он поел и выпил того, чего не полагалось бы, или что он ходил дорогой, на которой гений не хотел его видеть; если же он решается остаться дома, то он зовет к себе старух, которые обвешивают его всякими амуле-тами. Если безбожники смеются над празднествами, освящени-ями и оргиазмами, то эти люди бледнеют, возлагая на голову праздничный венок, приносят жертву со страхом, дрожащим голосом выговаривают молитвы и трепетными руками курят фимиам. Им нет покоя и во сне; им снятся муки места, уготованного для нечестивых, и в трепете они бросаются к кудесни-кам и шарлатанам, которые мажут их навозом, велят сидеть на земле или окунаться в море и т. д.
Подобные уродливые проявления религиозности встречались, конечно, в истории Греции и раньше. Еще Платон жаловался, что некоторые из современников его позволяют себя морочить различным «искупителям душ». Но, повторяю, глубокая разница между эпохою Платона и Плутарха состоит в том, что для Платона и образованных современников Платона все это было шарлатанство, а для Плутарха и образованных современников Плутарха это являлось лишь некоторым преувеличением той самой «богобоязненности», которая наполняла и их сердца. По духу, которым полны их собственные произведения, мы видим, что для них родственнее было такое благочестие, нежели благочестие Платона.
Итак, изложенное нами выше обычное объяснение, почему утонченное греко-римское общество времен империи могло являться вместе с тем гнездилищем дикого суеверия, – ссылка на крайнюю односторонность античной умственной культуры, – при всей своей справедливости требует некоторых ограничений. Та же классическая древность дает нам и наглядные примеры, как при известных благоприятных обстоятельствах уже одно чисто эмпирическое познание закономерности естественных явлений – то самое познание, без которого человек не может бросить первой горсти зерна в землю с надеждой вернуть ее с лихвой обратно, – оказывается способно служить уму достаточной опорой для полного разрыва с первобытным «анимистическим» миросозерцанием и для освобождения души от страха перед таинственными «нездешними» силами. И в интересах дальнейшего нашего изложения нам следует дать себе хотя бы самый общий отчет в том, чем обусловливалась эта относительная свобода от суеверия, которая так выгодно отличает древнее греческое общество и римское общество конца республики от образованных по риторической программе на греческий же лад римских граждан времен империи.
Автор одного из самых талантливых очерков по исто-Рии образования в античном мире, датский профессор Уссинг, заканчивает свою работу такого рода общим положением: «Внутренняя сущность классической древности заключается в ее свободе. Как только свобода эта была утеряна, античный мир сейчас же стал опускаться все ниже и ниже. Богатство его жизненным содержанием улетучивается, оставляя после себя пустые формы; его культура вырождается в варварство. Оттого-то мы и находим, что общее образование, доставшееся средним векам в наследство от греко-римской древности, совсем не дорогого стоило». К этому замечанию и мы вполне можем примкнуть с точки зрения нашего вопроса.
«Истинное образование римского гражданина, – говорит Цицерон, – издревле снискивалось не в учебных заведениях: форум был его школой, опыт – его наставником». В такой же школе и у того же наставника учился главным образом и греческий "политис" в цветущее время греческих республик. И когда школы эти волею судеб были закрыты, оставив после себя одни «училища красноречия»,| по основному смыслу своему имевшие сначала служебный, приготовительный, характер, то общее духовное раз-витие древних граждан от этого, конечно, не могло не пострадать. Особый же ущерб потерпели при этом именно те его стороны, которые всего важнее для успешной борьбы души против господства фантомов, порождаемых суеверной фантазией, – сила характера и крепкий крити-ческий склад ума. Известно, в самом деле, каким могучим союзником суеверия является общее легковерие – отсут-ствие привычки строго различать в чужих рассказах исти-ну от намеренной или ненамеренной лжи. Известно далее и то, каким лекарством против легковерия, какой школой критики служит широкая практическая деятельность, где всякая ошибка в рассуждении дает себя так осязательно, так горько чувствовать и где неисправимо легковерные,; натуры в конце концов совсем выбрасываются жизнью за борт. А школа, которую проходили в этом направлении полноправные греческие или римские граждане, была oco-бенно требовательна и строга. От трезвости и ясности их взгляда на окружавшую действительность зависел не только личный успех или неуспех в жизни каждого из них; от этого нередко зависела судьба целого общежития, и общежитие не давало пощады тем, кто в трудную минуту волей или неволей сбивал его на ложную дорогу. Но сила, с которою может овладевать душою суеверие, вовсе не обусловливается лишь состоянием мыслительной способности человека. Не входя в более подробный анализ различных элементов суеверия, я только напомню здесь находящийся у всех перед глазами факт, что при известном складе натуры, при неустойчивости общей нервной организации, даже люди, облеченные во всеоружие современной науки, вполне усвоившие себе и результаты ее, и методы, все же оказываются способны платить тяжелую дань грубо суеверным ощущениям и инстинктам. Поэтому, указывая условия, в которых античный мир на время успел было поколебать в своей среде господство суеверия, я и упомянул на первом месте развитие силы характера, являющееся такой яркой чертой духовного склада античных общежитий в счастливую их пору. Даже в период детской, наивной, нерассуж-давшей веры ни грек, ни римлянин не трепетали рабски пред своими божествами. Когда же вопрос о сверхъестественном сделался в Греции объектом размышления, то грек так рано начал ставить все неземное как можно дальше от земли, не только уступая доводам воспитанного здоровой жизненной деятельностью рассудка: его влекло на тот же путь и свойственное всякой крепкой натуре желание чувствовать себя вполне свободным человеком. Эта моральная подкладка рано сказавшегося в Греции «свободомыслия» в эпоху полного расцвета греческой философии дает себя всего яснее чувствовать в самой последовательной из рационалистических ее систем – в системе Эпикура. Учение Эпикура о полном невмешательстве вечных, блаженных и всесовершенных богов в жизнь мироздания и в судьбу людей проистекало не из того, чтобы он особенно глубоко проник в действительную разгадку тайн окружающей нас природы. Оно подсказывалось ему всего сильнее взглядом его на личное совершенство и на пути к возможному на земле счастью. Страх был для Эпикура злейшим врагом человеческой души. Освобождение души от страха он обещал, как высшую награду, всем, кто усвоит его учение. А так как верить в близость сверхъестественного и не испытывать при ощущении этой близости страха является для человека вещью немыслимой, то освобождение души от подобной веры и выступало в доктрине Эпикура на первый план. Так и звучит известная апология эпикуреизма, написанная Лукианом, когда один из современных ему носителей нового духа, некий «пророк» Александр, публично сжег в Пафлагонии главное из сочинений Эпикура за отъявленное его «безбожие». «Презренные гонители не понимали, источником какого блага служит эта книга для тех, кто ее читает, – какую она дает им тишину и спокойствие, какую свободу, насколько она успешно разгоняет страхи, видения, знамения, тщетные мечты и неисполнимые желания, как содействует она торжеству разума и истины, как очищает душу». Подобными же свойствами ума и характера обусловливалась притягательность греческих рационалистических доктрин и для многих римлян, когда римское общество в конце республики тоже начало размышлять о философских вопросах. «Человечество, – писал Лукреций, – влачило постыдное существование, пока с неба метала на него свои грозные взоры религия. Но явился Эпикур, дерзнувший наследовать умом все заповеданные области, – и мир освободился от векового трепета».