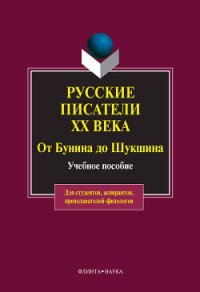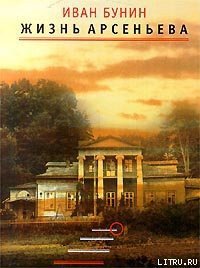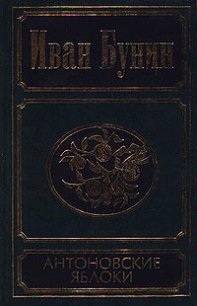Жизнь Бунина. 1870 - 1906. Беседы с памятью - Бунина Вера Николаевна (книги онлайн полностью бесплатно txt) 📗
Да, подумала я, кладя свою руку в его огромную ладонь, этот будет повнушительнее Петра Николаевича, а отец Яна, говорят, их всех забивал: и стрелял лучше всех, и отличался редким бесстрашием, да и в аппетите не уступал: как-то, уж совсем собравшись на охоту, с ружьем на плече, он проходил мимо блюда с окороком и, вероятно, неожиданно для себя остановился и так увлекся ветчиной, что, когда ушел, на блюде блестела лишь голая кость...
Жена Рышкова, застенчивая, полная женщина, в молодости хорошенькая, казалась уже пожилой, хотя ей не было и сорока лет. Зато дочери ее, две высокие, хорошо сложенные девушки, в простых полотняных платьях, без всяких следов, даже пудры, были прелестны. Старшая Лида была почти красавица, Маргарита, гимназистка последнего класса, излучала какое-то очарование, особенно когда говорила, — так звучен был ее грудной голос. С ними были два брата — кадет средних классов, Анаша, совершенно не похожий на сестер своей белокурой внешностью и мелкостью сложения, и семилетний мальчуган Витя.
Высокая, красивая шатенка, нарядная по-городскому, двоюродная сестра их, оказалась женой станового. Она давно не была в этих местах, с Буниными не видалась с тех пор, как они уехали из Озерок, а потому посыпались восклицания радости, удивления. Они с Машей представляют друг другу своих мужей, и я улавливаю улыбки, которые говорят: «Что, хорош?» Ян рассказывает мне, что, будучи маленьким гимназистом, он влюбился в нее, когда она однажды уже настоящей барышней приехала в Озерки в белом платье и с толстой русой косой...
Наконец все разместились, на некоторое время стало тихо: отдают должное Дуняшиным пирогам с разными начинками. И только и слышен стеклянный стук рюмок, шуршанье платьев горничных да редкие фразы хозяев: «Не хотите ли балычка?..», или «Передайте, пожалуйста, вон ту селедочку..», или «Еще по рюмочке»... Только после супа, поразившего меня количеством пупков различной величины, завязываются разговоры, поднимаются споры, раздается раскатистый смех Рышкова. Особенно оживленно на втором столе, где гости расхвастались друг перед другом своей силой; особенно состязаются Ласкаржевский с Володей Лукиным: один уверяет, что он приподнимает паровоз, а другой с жаром доказывает, что ему ничего не стоит поднять {392} за передние ноги лошадь... И я читаю в насмешливых зеленоватых гла-
Файл bun393g.jpg
И. А. Бунин. Канн, порт, 1934.
зах Рышкова: «Да я вас обоих одной левой рукой сокрушу!»
Митюшка, сидевший недалеко от меня, ухаживает за Маргаритой, и я все прислушиваюсь к ее певучему голосу... Коля, конечно, устал, отупел и от пищи, и от людей. Я тоже утомилась от новых лиц, среди которых я чувствую себя чужой, и радуюсь, когда после мороженого встают изо стола, и я незаметно проскальзываю в свою комнату и ложусь отдохнуть. Ян с братьями проходит к себе.
Я слышу, как упрашивают Логофета сыграть на пьянино. Раздаются бетховенские звуки. Мне приятно: они возвращают меня к прежнему миру, о котором я как-то в то лето не вспоминала. Скучала ли я по нем или хотя бы по своей семье? Нет, совершенно не скучала, даже до странности тупо относилась ко всему, что приходило оттуда; например, получив письмо от мамы из Карлсбада, написанное не ее рукой, я легко поверила, что у нее «немного болит рука»...
Вошел Коля. Он спасался от приставания гостей, просивших его петь.
Часа в три мы опять идем на ярмарку, там уже много пьяных, мне показывают высокого солдата в щегольских блестящих сапогах, ежегодно в этот день бьющего смертным боем лохматого мельника, который отбил у него жену. Солдат уже выпивши, хорохорится, готовясь к драке.
В кружке деревенской молодежи пляшет на одном месте с каменным лицом под гармонь девка, что-то приговаривая.
У лавки Лозинских небывалое оживление, торговля идет, как видно, вовсю. На маленьком балконе мелькают девичьи фигуры, — к ним тоже понаехало много гостей.
Возвращаемся домой мимо гумна. Там застаем компанию мужчин: состязаются в стрельбе, кто попадет в подброшенную бутылку. Вспоминают, что Алексей Николаевич попадал в подброшенный двугривенный!
На крыльце собралось женское общество, перед которым разостлан бежевый ковер. Одна баба, незаконная дочь помещика, продает его из-за нужды — самую драгоценную вещь из всего своего приданого. Она застенчиво озирается кругом, на ее тонком лице глубокая печаль. Все рассматривают ковер, жалеют ее, и наконец жена станового, которая знала ее с детства, приобретает это заветное добро. Трудно передать, как взволновала меня вся эта сцена. Все же отнеслись к ней очень спокойно, и я остро ощутила опять свое одиночество...
За чаем новые гости: помещица Злобина в какой-то замысловатой шляпке, в старомодном нарядном платье, которая немилосердно набелена и нарумянена и неистово кокетничает с молодыми людьми, и наша близкая соседка по прозванию Косячиха, в прошлом чуть ли не опереточная актриса, с дочерью полуду-{394}рочкой, очень некрасивой, которая, когда ее приглашают танцевать, говорит: «Я серьезная», а когда какой-нибудь кавалер в шутку начинает занимать ее и спрашивает, что она больше всего любит, то она со вздохом отвечает: «Я только в церкви душой отдыхаю»...
Некоторые гости сели за преферанс. Ласкаржевский, у которого хороший слух, заиграл на пьянино венгерку, и начались танцы. Больше всех носилась Маша с вологодским гимназистом, именинником Володей Лукиным. Она так любила танцевать, что готова была кружиться с кем угодно и когда угодно.
К вечеру почти все гости разъехались, не пустили без ужина лишь Рышковых.
Было совсем темно, когда мы все вышли на крыльцо провожать их. Они долго усаживались в свою старомодную линейку. Наконец тронулись. И, когда были у липовой аллеи, необыкновенно молодо, весело и мелодично прозвучал голос Маргариты: «До свиданья! Приезжайте, непременно! Не забывайте нас!»
Мы с Яном пошли за ними в темный сад, где сквозь густую листву проглядывали редкие звезды. Из-за садового вала несся стук удаляющихся копыт, с ярмарки долетали пьяные крики, «страдательные» (страдательными называются приказки, которые тянут на тягучий напев под гармонию).
— И так будут «страдать» целую ночь, — сказал Ян.
— А песен здесь разве не поют? — спросила я.
— Нет, песни вывелись, а раньше пели, и особенно хорошо пели дворовые. Впрочем, они другой породы, в них было много лирики, как и много дворянской крови... да всегда при господах, а ведь мы очень лиричны...
— А кто придумывает страдательные?
— Да кто угодно. В прежнее время, когда я ходил «на улицу», я и сам немало выдумывал их...
ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ В 1907—08 гг.
1
С Курского вокзала мы направились в Столовый переулок, еще не решив, где остановимся. Дома узнали, что нам отведены две комнаты: спальня и кабинет папы (сам он переселился на время в мою комнатку). Мама сразу не вышла к нам. Когда я увидела ее, то слезы выступили у меня на глазах, так она изменилась: из полной стала худенькой и напомнила мне ее мать, мою бабушку, скончавшуюся, когда мне шел восьмой год. На меня это произвело такое впечатление, что туман, в котором я жила, рассеялся.
Комнаты Яну понравились. В его кабинете, выходившем {395} в гостиную, стояла тахта, большой письменный стол, над которым висел мой портрет гимназисткой, в профиль, увеличенный одним из моих приятелей. Ян любил эту фотографию.
Мы разложили вещи. За завтраком обменивались впечатлениями с нашими о лете. Ян скоро ушел к Юлию Алексеевичу; я, посидев недолго с мамой, отлучилась на курсы, они были в двух шагах от нас, чтобы узнать расписание экзаменов.
Ян вернулся с братом и Колей, который уже нашел себе пристанище, кажется, у той же хозяйки, где они с Митюшкой жили в прошлом году. Мама оставила их обедать.
За обедом Юлий Алексеевич сообщил, что Телешовы еще на даче. Они 8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, пригласили своих друзей на целый день. Меня это огорчило, — в этот день рождение папы, и мне неудобно было бы уехать из дому.