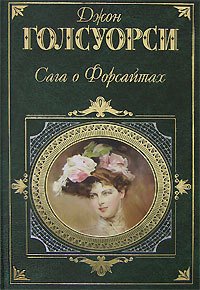Остров фарисеев. Путь святого. (сборник) - Голсуорси Джон (читать книги онлайн бесплатно без сокращение бесплатно .txt, .fb2) 📗
– Хотите сигару?
По смуглому лицу старика скользнула улыбка.
– Да как сказать, я их ведь никогда не курил, – ответил он, – но отчего бы и не попробовать?
– Берите, – сказал Феликс, перекладывая ему в карман все содержимое своего портсигара. – Выкурите одну, захочется еще. Они недурны.
– Ну да, – сказал старик, – еще бы!
– До свидания. Надеюсь, нога у вас поправится.
– Спасибо, сэр. До свидания, спасибо.
На углу Феликс обернулся: старик продолжал стоять посреди безлюдной улицы.
Сегодня из Лондона должна была вернуться его мать, и Феликс обещал ее встретить. До прихода поезда оставалось еще два часа, их надо было как-то провести, и, миновав дом мистера Погрема, Феликс свернул на тропинку, которая вела через клеверное поле, и вскоре присел отдохнуть на ступеньку перелаза. Сидя на окраине города, который возник благодаря его прадеду, Феликс погрузился в мысли. Больше всего он размышлял о старике, с которым только что разговаривал; само Провидение послало ему этого человека: ведь это отличный прототип для «Последнего Пахаря». Поразительно, что старик говорит о своей любви к земле, на которой проработал в поте лица своего лет шестьдесят, получая в неделю несколько шиллингов, хотя на них ведь даже не купишь сигар, которые он сунул ему сегодня в рваный карман. Да, это поразительно. Но в конце концов, разве земля – это не радость для души? День ото дня меняется она на ощупь и на глаз, меняется самый воздух над ней и даже ее запах. Вот она, эта земля, с мириадами цветов и крылатых тварей; неустанная и величественная поступь времен года. Весна приносит радость молодых побегов, у нее тоскующее, дикое, неспокойное от ветра сердце; мерцание и песни, цветущие деревья и облака, короткие, светлые дожди; маленькие, повернутые к солнцу листы радостно трепещут; из-под каждого деревца и травки выглядывает что-то живое. А потом лето. Ах, лето, когда на могучих старых деревьях лежит неторопливый свет долгого дня, а прелесть лугов, многоголосица жизни и запах цветов одурманивают бегущие часы, пока избыток тепла и красоты не перебродит в темную страсть! Тогда наступает конец.
Идет осень в зрелой красе полей и лесов; золотые мазки на буках; багровые пятна рябины; ветви яблонь отягощены грузом плодов, а голубое, как лен, небо почти сливается с туманом от земли; стада пасутся в медлительной золотистой тишине; ни дуновения ветра, чтобы унести голубоватые дымки над сжигаемым бурьяном, а на полях все недвижно. Кому захочется нарушить этот безмятежный покой? А зима! Просторные дали, долгие ночи, но зато какой тончайший узор ветвей: розовые, пурпурные, фиолетовые оттенки на голых стволах в рано темнеющем небе! Быстрый черный росчерк птичьих крыльев на беловато-сером небосводе. Не все ли равно, какое время года сжимает в объятиях эту землю, которая породила нас всех?
Нет, не удивительно, что в крови людей, которые лелеяли и берегли эту землю, заботились о ее плодородии, живет такая глубокая и нежная любовь к ней; любовь не позволяет им оторваться от нее, бросить эти холмы и травы, птичьи песни и следы, оставленные здесь их предками в течение многих веков.
Подобно многим своим современникам, утонченным интеллигентам, Феликс чуждался официального патриотизма – этой густой настойки из географии и статистики, прибылей и национальной спеси, от которой так легко кружатся слабые головы, но зато он любил родную землю так, как любят женщину, – с какой-то чувственной преданностью, со страстью, которую вызывали в нем ее красота, ее покой, ее сила, заставлявшая его чувствовать, что он вышел из нее и только в нее может вернуться. Этот зеленый кусок родной земли, где жили его предки по материнской, самой дорогой для него линии, имел и сейчас над его душой такую власть, что ему полагалось бы стыдиться ее в дни, когда британец стал убежденным горожанином, которого прихоть то и дело уносит во все четыре конца света. Феликс всегда чувствовал какую-то особую прелесть в этих окаймленных вязами полях, цветущих рощицах, в этих краях, где искони жил род Моретонов; его привораживали эти глубокие небеса, испещренные белыми облаками, эти заросшие по обочинам травой дороги, пятнистые и белые коровы, синевато-зеленые очертания Молвернских холмов. Если Феликс где-нибудь и ощущал присутствие Бога, то именно здесь. Сентиментальность? Без этой сентиментальности, без этой любви человека к своему родному углу земля обречена на гибель. Пусть Бекет трубит во все трубы до Второго пришествия, все равно земельный вопрос не будет решен, если люди позабудут о самой земле. Надо укреплять в людях любовь к родине. Надо позаботиться, чтобы неуверенность в завтрашнем дне, вопиющая нищета, деспотизм, вмешательство в личную жизнь не подорвали этой любви. Этого необходимо добиться. Деревенское однообразие? Правда ли это? Какая работа, доступная простым людям, разнообразнее, чем крестьянская? Нет, работа на земле в десять раз живее любой другой. Она меняется изо дня в день: прополка, сенокос, корчевание, огораживание; посев, жатва, обмолот, скирдование, заготовка соломы; уход за животными и дружба с ними; стрижка овец, мойка шерсти, заготовка дров, сбор яблок, приготовление сидра; постройка и смазывание ворот, побелка стен, рытье канав – ни один день не бывает похож на другой. Однообразие! Труженики на фабриках, заводах, в шахтах; бедняги, которые водят автобусы и пробивают билеты, чистят дороги, пекут хлеб и готовят пищу, шьют и печатают на машинке; кочегары, машинисты, каменщики, грузчики, конторщики… Как много горожан могли бы воскликнуть: «Какой у нас унылый, однообразный труд!» Правда, у них есть праздники и развлечения. Вот о чем следовало бы поговорить в Бекете – о празднествах и развлечениях для деревни. Но… И тут Феликс внезапно вспомнил про тот долгий праздник, который предстоит Трайсту… Ему придется сидеть и томиться, «ждать и томиться», как сказал маленький гуманист; ждать и томиться в камере в двенадцать футов на восемь. Неба оттуда не увидишь, запах травы туда не донесется, не будет там и животных, чтобы скрасить ему жизнь, ибо в себе самом он не найдет опоры. Ему останется только сидеть, устремив трагический взгляд на стену целых восемьдесят дней и восемьдесят ночей, до самого суда, и только тогда начнется его наказание за мгновенную вспышку ярости, за попытку отомстить своим обидчикам. Что есть в мире более сумасбродного, злобного и чудовищно глупого, чем жизнь самого совершенного из существ – человека? Что за дьявол этот человек, способный в то же время подняться до высочайших вершин любви и героизма? Что за жестокий зверь, самый жестокий и безжалостный на свете?.. Из всех живых существ человек легче всего поддается страху, который превращает его в гнусного палача. «Страх, – подумал Феликс, – именно страх! Это не мгновенный испуг, который толкает наших братьев животных на всякие глупости, а сознательный, расчетливый страх, парализующий разум и великодушие. Трайст совершил отвратительный поступок, но его наказание будет в двадцать раз отвратительнее…»
Не в силах больше думать об этом, Феликс встал и побрел дальше по полю.
Глава XXV
Он явился на станцию как раз к приходу лондонского поезда и, минуту поискав взглядом мать не там, где было нужно, увидел ее уже на перроне, рядом с чемоданом, надувной подушкой и безукоризненно застегнутым портпледом.
«Приехала третьим классом, – подумал он. – Ну зачем она это делает!»
Чуть-чуть порозовев, она рассеянно поцеловала Феликса.
– Как мило, что ты меня встретил!
Феликс молча указал на переполненный вагон, из которого она вышла. Фрэнсис Фриленд немного огорчилась.
– Я чудесно доехала, – сказала она. – Но в купе был такой прелестный ребеночек, что я, конечно, не могла открыть окно, поэтому, пожалуй, и правда было жарко…
Феликс, который как раз в эту минуту смотрел на «прелестного ребеночка», сухо заметил:
– Ах вот, значит, как ты путешествуешь? А ты завтракала?
Фрэнсис Фриленд взяла его под руку.
– Не надо расстраиваться, милый! Вот шесть пенсов для носильщика. У меня в багаже только один сундук, на нем лиловый ярлык. Ты видел такие ярлыки? Очень удобная вещь. Сразу бросается в глаза. Я куплю их для тебя.