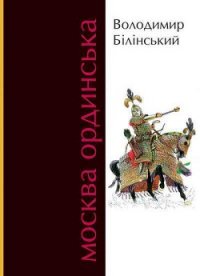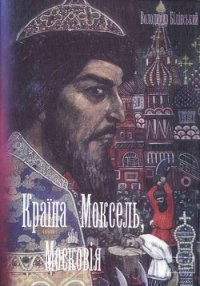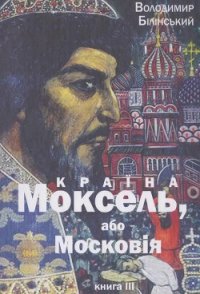Москва Ординська. Книга друга - Білінський Володимир Броніславович (список книг txt) 📗
Возможно, кто–то назовет мою интерпретацию письма Филофея неприемлемой. Однако, даже если другие интерпретации убеждают больше, проблема состоит в том, что просто нет свидетельств того, что московские политики и церковники хоть немного испытывала влияние этого текста вплоть до конца XVII века.
4.
Мы должны разобраться еще с двумя вариантами недоразумения относительно «третьего Рима». Первый из них — представление о якобы глубоком влиянии византийской религиозной и политической мысли на Московию. Должен сказать, что чем больше я изучаю эту конкретную проблему, тем больше убеждаюсь, что это одна из величайших мистификаций.
На самом же деле, кроме очевидного и весьма значимого факта обращения в христианскую веру киевских восточных славян византийскими южными славянами, а также эпизодических проповеднических, пастырских и политических миссий некоторых путешественников (греков и болгар) в московские земли, практически нет свидетельств о какой–то живой и непрерывной византийско московской культурной традиции. Как с убийственным педантизмом показал Френсис Томпсон, в Киевском государстве с греческого языка почти ничего не было переведено; этот исследователь ныне демонстрирует то же самое в отношении Московии. П. Н. Капте рев уже давно доказал, что реальные российско–греческие отношения характеризовались постоянной взаимной подозрительностью и враждебностью.
До второй половины XVII века в Москве трудно было найти хотя бы одного здешнего, который бы более–менее прилично владел. греческим языком. Даже в столь глухой провинции, которой был тогдашний Гарвардский колледж, учеников, способных процитировать какое–то стихотворение Нового Завета на языке оригинала нашлось бы больше, чем во всем тогдашнем Московском царстве. Московиты, как и их забытые киевские предшественники, греческого языка не знали, подлинных греческих текстов не имели, с греческого языка на церковно–славянский ничего не переводили.
В конце XV века добрая дюжина городов католической Европы могла похвастать большим числом студентов и преподавателей греческого языка, числом греческих рукописей и вообще гораздо большим вниманием к византийской традиции, чем вся Московия вместе взятая.
Именно из одного такого итальянского города приехал в 1518 году славный Максим Грек, которого пригласили в Москву, чтобы он сделал проверку старых переводов Псалтыря, и где через несколько лет его заточили в одном из монастырей. Однако и Максим, чья деятельность в Московии до сих пор слабо изучена историками, в любом случае не был столь вышколенным знатоком греческого текста Нового Завета, как, скажем, его западный современник Эразм Роттердамский.
5.
Необходимость быть кратким вынуждает меня перейти теперь к мифу о «московском православии», родственному мифу о «византийском влиянии». Здесь мы затрагиваем вопрос не только сложный, но и деликатный. Деликатности требует простая вежливость: неприлично высказывать скептицизм насчет религиозных убеждений другого человека. Когда неверный берет под сомнение чью–то веру, скажем, в Святую Троицу — это и бессмысленно, и оскорбительно. Однако деликатность не запрещает нам иметь свое мнение по этому вопросу.
Поэтому, когда русский человек провозглашает себя верующим, посторонним людям не пристало проверять знание им «Символа веры». Но когда тот же человек заявляет, что быть
русским — значит, быть православным верующим, несмотря на то, что опросы выявляют, что русские больше верят гороскопам, чем в Троицу, посторонние люди могут сделать определенные выводы, не боясь кого–то оскорбить.
Такое понимание интеллектуальных добрых намерений касается и прежних времен, хотя там оно усложняется недостатком информации. Мы просто не знаем, что думало большинство московитов обо всех этих вещах. Прежде всего потому, что абсолютное их большинство (в том числе князъя, бояре и священники) вплоть до XVI века оставалось очень скромно образованным (чтобы не сказать хуже) и потому не оставило нам записей о том, что оно думало — ни личных дневников, ни писем.
Однако мы имеем доказательства, что та политическая система, которой в самом деле двигали могучие религиозные убеждения, — это продукт позднейших времен.
Что же касается политической системы Ивана III и его ближайших преемников, то она выросла из постоянных гражданских войн между православными князьями, которые систематически нарушали крестные клятвы. Возникнув, Московия посвятила первые сто лет своего существования тому, чтобы подчинить соседние славянские и православные княжества, очень часто — с помощью союзников–мусульман. Одним словом, прагматизмом — назовем это так — своего поведения московская политическая система ничем не отличалась от других европейских государств перед Реформацией.
Однако два аспекта резко выделяли Московию, и оба свидетельствуют против идеи сильного союза церкви с государством в «православной Москве». Во–первых, церковь как отдельный институт была здесь несравнимо более бедной, слабой и менее организованной, чем ее западные сестры, и чем светская власть. Великие князья обычно делали с церковью все, что хотели — задолго до того, как Петр I превратил ее просто в бюрократический аппарат.
Во–вторых, в Московии намного слабее было взаимопроникновение светской и церковной элит, по сравнению с тем, что имело место в западных обществах. Видимо, причиной этой изоляции послужили структурные причины, в частности, обычай наследственной передачи приходов женатыми священниками и монополия монахов на должности епископов. Но как бы мы ни объясняли эту разницу, факт остается фактом: светская и церковная элиты так и не создали той нерушимой фаланги, которую мы находим в других христианских сообществах.
По этим и ряду других причин можно только удивляться, отче. го многие историки держатся взгляда, будто бы конфессиональная политика играла важную роль в мышлении политиков Московии в те века, когда она формировалась и расширялась, и что миф о «православной Москве» столь живуч.
6.
Но если мотивами к расширению Московского государства не служили ни воспоминания о так называемом «киевском наследии», ни идея крестового похода против татар, ни представления, взятые из несуществующей теории Третьего Рима, и если в этой империи не знали византийского «цезарепапизма» (как и истории самой Византии), если учение церкви не вдохновляло экспансию, а церковь к тому же регулярно угнетали, — тогда встают два вопроса. Первый: что же являлось побуждающей силой? И второй: откуда взялись все эти стереотипы?
Первый вопрос — более трудный. Рассматривая главные этапы московской экспансии, мы можем, несколько упрощая, сказать, что основных причин для экспансии было три:
— в демографическом плане московиты представляли собой динамичную этническую массу, вокруг которой простирались малонаселенные территории;
— московский двор сумел стать централизованной, монолитной и достаточно эффективной военно–политической организацией;
— военно–политические организации соседних государственных образований во времена наибольшей экспансии Москвы были ослаблены внутренними конфликтами, истощением ресурсов либо угрозой третьей стороны.
Обычно эти причины взаимодействовали: так, в целом мирное проникновение в Заволжье, на Урал и в Сибирь давало ресурсы для военной машины, двигавшейся на Смоленск и Киев; внутренние конфликты в Литве или на Кавказе усиливались под московским влиянием; централизованное политическое руководство проявляло умение мобилизовать ресурсы и поглощать местные элиты, и т. д. И наоборот: там и тогда, где и когда этих условий не было, экспансия частично тормозилась. Например, русские колонисты не смогли вытеснить относительно плотное население Украины, Беларуси или даже Средней Волги; в те периоды, когда центральное руководство теряло свою монолитность, экспансия приостанавливалась или даже, как в 1605 году, империя начинала распадаться; а там, где соседи были способны оказать вооруженное сопротивление, как было со Швецией, Османской империей и Китаем, экспансия вообще останавливалась.