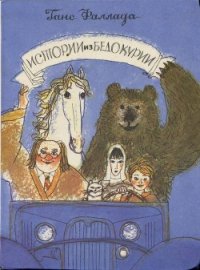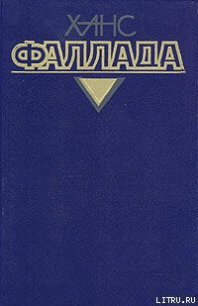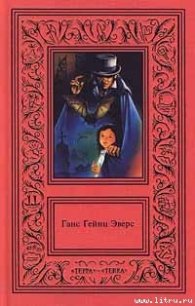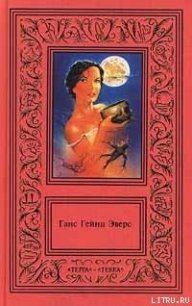Каждый умирает в одиночку - Фаллада Ганс (читать книги онлайн без TXT) 📗
За что благодарен, он и сам не знает. Может быть, за то, что руководитель гитлеровской молодежи не поддал ему коленкой под зад и не спустил с лестницы. Такой мелкой ищейке пришлось бы и это стерпеть.
Но Бальдур Перзике на приветствие не ответил. Он уставился на Боркхаузена осоловевшими глазами, и тот не выдержал, заморгал и опустил взгляд.
— Так ты, — потехи ради, Розентальшу постращать хотел? — спрашивает Бальдур.
— Да, — не подымая глаз, тихо отзывается Боркхаузен.
— Ради какой такой потехи? — продолжает Бальдур допрос. — По примеру фирмы цап-царап и компания? Только и всего?
Боркхаузен исподлобья взглядывает на своего собеседника: — Ну, — говорит он, — морду-то я бы ей набил.
— Так! — отзывается Бальдур. — Так!
Минутку они молчат. Боркхаузен соображает, можно ли ему теперь удалиться, но разрешенья на уход он еще не получил, и потому он молчит, опустив глаза, и переминается с ноги на ногу.
— Ну-ка, войдем, — вдруг говорит Бальдур, и язык у него заплетается. Он тычет пальцем в открытую дверь своей квартиры. — Может, у меня еще к тебе дело окажется. Там видно будет!
Словно повинуясь указующему персту, молча шагает Боркхаузен в квартиру Перзике. Бальдур, нетвердо держась на ногах, но все же молодцевато, по-солдатски, следует за ним. Дверь за обоими закрывается.
Этажом выше фрау Анна Квангель отошла от перил и юркнула к себе в квартиру, осторожно закрыв замок, чтоб он не щелкнул. Почему стала она подслушивать разговор обоих мужчин, начатый на верхней площадке перед квартирой фрау Розенталь и законченный перед дверью Перзике, она и сама не знает. Обычно она сле-довала принципу мужа: кто здешние жильцы, что они делают, нас это не касается. Лицо у фрау Квангель все еще болезненно бледное, а веки нервно подергиваются. Раза два уже тянуло ее присесть и поплакать, только нет у нее слез. В голове вертятся обрывки фраз вроде «ой сердце щемит», «так в голову и ударило», «все нутро изныло». Все это она в какой-то мере ощущает, но ощущает она и другое: «Не прощу им, что они загубили моего мальчика. Я могу и другой быть…»
Она и сама еще не отдает себе отчета в том, что значит «другой быть», но, возможно, уже этот пробудившийся интерес к тому, что творится в доме, показывает, — она становится другой. Думает она еще и о том, что теперь хватит жить по мужниной указке, как сама хочу, так и буду поступать, нравится это ему или нет.
Она спешно принимается за стряпню. Продукты, которые выдаются по карточкам, почти целиком идут на мужа. Человек он уже немолодой и все время работает сверх сил; она же редко выходит и берет шитье на дом. Такое распределение нормированных продуктов кажется ей вполне естественным.
Она еще возится со своими кастрюлями, а Боркхаузен уже выходит от Перзике. Не успел он спуститься с лестницы, и угодливое раболепие, с которым он держался у Перзике, как рукой сняло. Двором он идет, выпятив грудь, от водки по телу разливается приятное тепло, а в кармане лежат две десятимарковые бумажки, одна из которых предназначена для смягчения разгневанной Отти.
Но, войдя к себе в подвал, он видит, что Отти уже не гневается. Стол накрыт белой скатерью, а на диване сидит Отти с посторонним мужчиной. Прилично одетый гость быстро снимает руку с Оттиного плеча. И совершенно напрасно, к чему такая щепетильность!
Боркхаузен думает: ишь ты, стерва! Старая, а какого подцепила! Верно в банке служит или учителем…
В кухне орут и визжат дети. Боркхаузен отрезает каждому по толстому ломтю от лежащего на столе хлеба. Потом сам садится завтракать, На столе не только хлеб, но и колбаса, и водка. Он оглядывает мужчину на диване довольным взором. Тот чувствует себя, повидимому, не так хорошо, как Боркхаузен.
Поэтому Боркхаузен только слегка перекусил и сейчас же уходит. Чего доброго, еще спугнешь этого франта. Приятно то, что теперь все двадцать марок можно взять себе. Боркхаузен направляется к Роллерштрассе; он слыхал, что там есть пивная, где посетители будто бы несдержаны на язык. Пожалуй, там удастся обделать какое-нибудь дельце. Теперь в Берлине повсюду можно рыбку ловить. Не днем, так ночью.
Всякий раз, как он вспоминает о ночи, губы его под длинными отвислыми усами кривятся усмешкой. Ну и Бальдур Перзике, ну и семейка, нечего сказать, теплая компания! Только его им не провести, шалишь! Пусть не воображают, что двадцатью марками да двумя рюмками водки откупились. Погодите, придет время, он всех Перзике в кулак зажмет. Только сейчас бы не сплоховать..
Но тут Боркхаузен вспоминает, что ему еще до ночи надо отыскать некоего Энно. Возможно, что этот самый. Энно окажется как раз подходящим человеком. Боркхаузен ни на минуту не сомневается, что найдет Энно.
Тот ежедневно заглядывает в три-четыре кабачка, где обычно толкутся тотошники. Как этого Энно звать по имени и фамилии, Боркхаузен не знает. Он встречал его всего несколько раз в пивных, а там все зовут его попросту Энно. Отыскать Энно не трудно, а он, может быть, и окажется подходящим человеком.
ГЛАВА 4
Трудель Бауман выдает тайну
На фабрику Отто Квангеля пропустили легко, но вызвать Трудель Бауман оказалось куда сложнее. Дело в том, что работали здесь — впрочем так же как и на фабрике у Квангеля — не только сдельно: каждый цех должен был выполнить определенную норму, поэтому часто и минута была дорога.
По в конце концов он добился своего, в конце кондов здешний мастер тоже не зверь. Ну, как отказать в таком пустяке коллеге, да еще когда у того убит сын. Правда, пришлось объяснить, в чем дело, иначе Трудель не вызвали бы. Значит, надо будет сказать и ей, хоть жена просила не говорить, да все равно, мастер ей обязательно скажет, Только бы обошлось без слез, а главное, без крику. Просто удивительно, каким молодцом держалась Анна, ну, да Трудель тоже сумеет взять себя в руки.
Вот наконец, и она, и Квангель, который не ухаживал ни за одной женщиной, кроме Анны, не может не признаться, что Трудель прехорошенькая — темные пушистые вьющиеся волосы, круглое свежее личико, с которого работа на фабрике не согнала румянца, смеющиеся глаза, высокая грудь. Даже сейчас, в длинных-синих рабочих штанах и в старом, много раз штопанном и перештопанном джемпере, к которому пристали ниточки, даже сейчас она мила. Но всего милей, пожалуй, ее движения, все в ней искрится жизнью, точно каждый миг дли нее удовольствие: радость бьет из нее ключом.
Чудно, мелькает в голове у Квангеля, — такой размазня, кик Отто, такой маменькин сынок и вдруг подцепил этакую красотку. Но разве я знаю Отто, спохватился он, ведь я даже не удосужился разглядеть его как следует. Он верно, был совсем не такой, каким казался мне.
А в радио он, должно быть, толк знал, не зря все мастерские за него спорили.
— Здравствуй, Трудель, — говорит он и протягивает ей руку. И она быстро и крепко пожимает ее своей теплой, мягкой ручкой.
— Здравствуй, отец, — отвечает она. — Ну, что случилось? Мамочка по мне соскучилась или Отто письмо прислал? Обязательно постараюсь к вам на днях забежать.
— Надо бы сегодня вечером, Трудель, — говори? Отто Квангель. — Дело в том, что… — Но он не успевает докончить, Трудель со свойственной ей живостью сует руку в карман своих синих штанов, вытаскивает календарик и уже листает его. Она слушает невнимательно, момент для такого сообщения неподходящий. И Квангель терпеливо ждет, пока она отыщет то, что ей надо. Они стоят на сквозняке в длинном коридоре, выбеленные стены которого сплошь залеплены плакатами. Невольно взгляд Квангеля падает на объявление, которое висит наискось за спиной у Трудель. Он читает слова, жирными буквами напечатанные в заголовке: «Именем немецкого народа…», затем следуют три фамилии «… приговорены к смертной казни через повешенье за измену, родине и государству. Приговор приведен в исполнение сегодня утром в тюрьме Плэцензее».
Невольно хватает он Трудель обеими руками и отводит в сторону, так, чтабы она не стояла под объявлением.