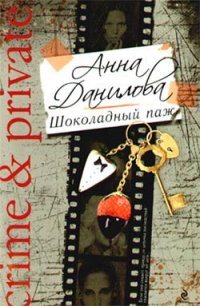Обвинение - Майна Дениз (читаем книги TXT, FB2) 📗
Я закрыла лицо руками и зарыдала.
– Хэмиш, пожалуйста, не оставляй меня. Прошу тебя. Прости меня за то, что я такая. Я люблю тебя.
Хэмиш обернулся, тоже в слезах. Он обнял меня, и я рыдала у него на груди и без конца повторяла «будь со мной нежен» – что это на меня нашло? Не знаю, но мы оба понимали, что все кончено. Я чувствовала себя опустошенной.
Умоляла его не забирать с собой девочек:
– Я не вынесу, если их не будет рядом. Неделя – это слишком. Я умру. Прошу тебя, останься. Я уйду из дома. Только останься. Прошу-прошу-прошу.
Он пробормотал:
– Анна, послушай, мне надо кое-что тебе сказать… – Но тут Эстелль крикнула с первого этажа, что такси уже подъехало, и Хэмиш отпрянул.
А потом мы спустились вниз, и я по всей прихожей раскидывала пачки банкнот на так называемое расселение. Чемодан Хэмиша вдребезги разлетелся, а я порезала ногу, и у меня по голени стекала кровь. Эстелль пришла в бешенство, когда я взяла немного крови и брызнула ей прямо на новое платье.
Вообще Эстелль меня просто поражала. Вспыльчивая, веселая, непримиримая. Как-то раз на занятии по йоге кто-то пукнул, и она так хохотала, что упала и сломала запястье. Ее не проведешь. Хэмиш что, наболтал ей, что я его тираню? Так, что ли? А может, я его и правда тиранила?
Но ей ли не знать, что ему это все не впервой. Я же ей рассказывала.
Я уже пять месяцев носила в себе Джесс, когда Хэмиш впервые пригласил меня к себе домой. Приезжай ко мне в восемь утра, сказал. Поговорим как взрослые люди. Расскажем Хелен вместе. Тогда-то я и поняла, какой он трус.
Эстелль прекрасно знала, что, доехав на метро до станции «Хиллхэд», я не стала выходить и пешком добираться сюда, чтобы рассказать жене Хэмиша, что ее потеснила модель помоложе, а вместо этого поехала дальше на поезде. Я выключила телефон и проехала весь путь по кольцу, а потом вышла в город и села на поезд до Манчестера. На время я остановилась у подруги. А когда вернулась, Хелен уже и след простыл.
Хелен писала мне в течение нескольких лет. Недоброжелательно, скажем так. Я заставляла себя читать ее письма. Письма были гадкие, но я не стала говорить о них Хэмишу. Он ведь мог выделить ей алименты. Она нигде не работала, и письма отдавали едким водочным перегаром.
Эстелль все это знала и все равно пришла к двери, как ей было велено. Жить по велению других не для всех. Уж точно не для меня.
Я наблюдала, как такси увозит их в аэропорт. Сидела на пороге, на верхней ступеньке и выла от бессильной ярости, как вдруг увидела нашу стервозную соседку Претчу, выгуливавшую своего толстого пса Стэнли.
Претча брела неторопливо, как обычно, вся в телефоне. Ей от пятидесяти до шестидесяти, и меня она всегда недолюбливала. За спиной она зовет меня «нянечкой-иностранкой». Она поглощала семейные дрязги, стояла со своим перетянутым лицом, обколотым ботексом. Всем нам приходилось делать вид, что этой хреновой кучи неудачной пластики как будто и нету. Будь с ними пообходительней, – твердил мне Хэмиш, – он практически заведует немецким банковским сектором. Он баснословно богат.
– Здравствуй, дорогуша, – поздоровалась она.
Стоит только подумать, что хуже уже не бывает, как понаблюдать приходит какой-нибудь недоброжелатель.
Только ее мне сейчас не хватало; на моих глазах такси увозило все то, что я любила в этой жизни.
Мне хотелось броситься за ним и по-собачьи заскулить, уберечь моих девочек от этих веселых каникул, спасти Эстелль от новых отношений, утянуть обратно Хэмиша в наши обоюдные муки.
Послушать меня, я как будто бы попала в самый водоворот событий. Звучит так несуразно и как будто бы богато на события. Но все было не так. Это было просто унизительно и печально.
Я стояла на ступенях под колючим дождем, под пристальным взглядом противной соседки, пока такси удалялось, забирая с собой все, что мне в жизни дорого, и внутри меня как будто что-то надломилось. Мне хотелось рухнуть на колени и выть, рвать на себе одежду и посыпать голову пеплом, проклиная Господа Бога. Но дело было в Глазго, и я была Анной Макдональд, поэтому я развернулась, зашла в дом и спряталась там.
Тут-то я и совершила ошибку.
Ведь я могла бы и не выбраться оттуда живой.
9
Я сидела на полу в прихожей. Совсем упавшая духом. Оцепенев от шока. Кажется, я просидела там уже немало, но мне трудно было уследить за временем, оно скользило, как щенок на мокром полу.
Я решила, что лучше повеситься, прямо в спальне, но меня беспокоило, кто меня обнаружит. Я так и видела, как девочки, вернувшись из Португалии, взбегают по лестнице и обнаруживают мое тело недельной давности, распухшее и гниющее. Мне была противна собственная слабость. Я не могла спасти их от того, что мне досталось от отца, но могла уберечь их от ужасного зрелища.
Чердак. Без лестницы им туда не взобраться. Бельевая веревка лежала в подвале, свернувшись кольцами на полке, дожидаясь меня.
Я сейчас.
Но в какой-то момент я обнаружила в кармане телефон. Надо было предпринять хоть что-то. Поговорить я об этом ни с кем не могла. Послушать музыку тоже не помогло бы, ведь случайный минорный аккорд мог подвести меня к черте. Понятное дело, в социальных сетях меня нет. На телефоне я только слушаю аудиокниги с подкастами.
Подкасты.
Я не была уверена, что смогу сейчас осилить этот подкаст. «Тру-крайм» работает только тогда, когда рассказ идет о незнакомых людях и сюжетах, которые тебя не касаются, но я не знала, чем еще себя занять.
Я разблокировала телефон и наткнулась на сайт «Смерть и Дана». Тут я вдруг заметила внизу странички файлик с видео.
Всего-то семь минут, большое дело. «Погружение А241-7». Файлик висел обособленно и как будто бы не относился к какому-то конкретному эпизоду. Я нажала на «плей».
Экран затемнился. Рассказчица, Трина, вывела текст с предупреждением: если вкратце, это лучше не смотреть. Слишком юным или пожилым, слабонервным или чересчур впечатлительным. Но кто вообще прислушивается к этим предупреждениям? Уж точно не я.
Экран заполонило зеленое бушующее море. Звука не было, съемки велись под водой.
Дайвер вышел с пучиной один на один и постепенно погружался, перебирая руками по спусковому тросу, снимая все на камеру GoCam, укрепленную на груди. Световой луч от налобного фонарика кидался из стороны в сторону, то и дело рассекая трос. Ныряльщика мотало на глубинных волнах. Видно было, как напружинены накачанные руки, лоснившиеся в гидрокостюме, как тюленья шкура.
Во мраке камера с трудом фокусировалась, то и дело наводясь на дрейфующие крупицы обломков, которые тут же уносило из кадра.
Поверх зеленого водоворота высветилась желтая надпись уродливым заводским шрифтом: «Комментарии О. Таскссона, инструктора по дайвингу», после чего надпись погасла.
«Он прощупывает путь по спусковому тросу, – начинает Таскссон. – Не выпуская трос из рук». Голос у него монотонный и заурядный, с легким немецким акцентом. В его голосе звучала скука, так безучастно он описывал обстановку – как человек, видавший виды.
«Видимость плохая. Море бушует. Много опасностей. Так выглядит жизнь профессионального дайвера. Тяжелый труд. А не любительский спорт. После такого спуска остается много синяков».
Строп, ответвлявшийся от главного троса, заканчивался металлическим цилиндром, видневшимся вдали в зеленоватой мгле.
«Барокамера установлена так, чтобы она была в зоне видимости, когда он будет подниматься назад. Назад он уже не поднимется».
Я, наверное, ослышалась. Голос у Таскссона был настолько унылый, что вслушиваться получалось с трудом. Я смотрела, как дайвер спускается дальше, минуя водолазный баллон на тридцать пять литров, прикрепленный к тросу.
«Опасный момент, когда на море шторм, – бубнил Таскссон. – Запасной баллон может закрутиться и оглушить его. На баллонах можно разглядеть показания манометра и уровень кислорода. Все в норме. На данный момент кислород поступает исправно, и он способен трезво мыслить. Он – хозяин положения».