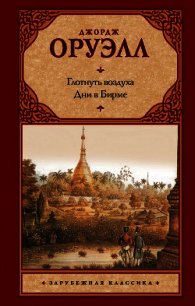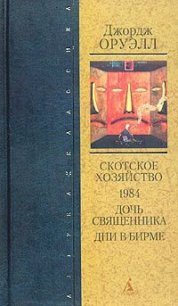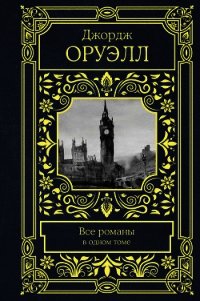Дни в Бирме. Глотнуть воздуха - Оруэлл Джордж (читать бесплатно книги без сокращений .TXT, .FB2) 📗
– Друг мой, мне печально слышать, что вы так говорите. Поистине, печально. Вы говорите, вы стесь санимаетесь коммерцией? Конечно, так и есть. Могли бы бирманцы саниматься коммерцией? Могут они делать машины, корабли, рельсы и дороги? Они без вас беспомосьны. Что бы стало с бирманским лесом, если бы не англичане? Его бы тут же продали японцам, которые бы вырубили все под корень. А вместо этого вашими руками лес фактически культивируется. И пока ваши бизнесмены расрабатывают ресурсы нашей страны, ваши чиновники нас окультуривают, поднимая до своего уровня, из чистого духа солидарности. Потрясаюсий пример самоотречения.
– Чушь, дорогой мой доктор. Признаю, мы учим молодежь пить виски и играть в футбол, но мало чему сверх того. Посмотреть на наши школы – это же фабрики для дешевых клерков. Мы никогда не учили индийцев никакому полезному ремеслу. Духу не хватает; боимся промышленной конкуренции. Больше того, мы погубили немало отраслей. Где теперь индийский муслин? Лет восемьдесят назад в Индии строили морские суда и снаряжали их. А теперь не построят и хорошей рыбацкой лодки. В восемнадцатом веке индийцы отливали пушки, не уступавшие европейским образцам. Теперь же, после того как мы пробыли в Индии полторы сотни лет, у вас на всем континенте не сделают и медной гильзы. Единственные азиатские народы, кто развивался быстро, – это народы независимые. Не будем трогать Японию, но возьмите Сиам…
Доктор возбужденно замахал рукой. Он всегда прерывал оппонента, когда тот упоминал Сиам (как правило, спор повторялся по одной и той же схеме, почти слово в слово), не желая признавать поражения.
– Друг мой, друг мой, вы сабываете асиатский характер. Как иначе обрасовывать нас, при нашей бесфольности и суеверности? Вы, по крайней мере, дали нам сакон и порядок. Неколебимое британское правосудие и мир народов.
– Мор народов, доктор, мор народов – так будет правильно. И в любом случае, для кого этот мир? Для ростовщика и законника. Конечно, мы поддерживаем в Индии мир, в наших же интересах, но к чему сводится весь этот закон и порядок? Больше банков и больше тюрем – вот и все.
– Какие чудовисьные искажения! – воскликнул доктор. – Расфе тюрьмы совсем не нужны? И расфе вы не принесли нам ничего другого, кроме тюрем? Восьмите Бирму времен Тибо [28] – грязь и пытки, и невежество – и посмотрите, что сейчас. Просто выгляньте с этой веранды – фскляните на эту больницу и чуть правее, на школу и полицейский участок. Фскляните на весь этот мосьный рывок прогресса!
– Конечно, я не отрицаю, – сказал Флори, – что мы определенным образом модернизируем эту страну. Это неизбежно. Правда в том, что мы не уберемся отсюда, пока не изничтожим всю бирманскую национальную культуру. Но мы их не цивилизуем, мы только мажем их нашей грязью. Что это принесет, этот рывок прогресса, как вы его называете? Только наши свинские побрякушки – граммофоны и шляпы-котелки. Иногда я думаю, что через двести лет ничего этого, – он махнул ногой в сторону горизонта, – ничего этого не останется – ни лесов, ни деревень, ни монастырей, ни пагод – все пропадет. Вместо этого будут розовые виллы на участках в полсотни ярдов; по всем холмам, насколько хватит глаз, вилла за виллой, и в каждой будет граммофон играть одно и то же. А все леса спилят под корень – перемелют на пульпу для «Мировых новостей» или понаделают граммофонов. Но деревья способны мстить, как говорит старик в «Дикой утке». Вы ведь читали Ибсена?
– Ах, нет, мистер Флори, увы! Это могучий, выдаюсийся расум, как говорит о нем вдохновенный Бернард Шоу. Мне еще предстоит это удовольствие. Но, друг мой, чего вы не видите, так это того, что ваша цивилисация даже в худших своих проявлениях несет нам польсу. Граммофоны, котелки, «Мировые новости» – все это лучше, чем ужасная асиатская леность. Я вижу британцев, даже наименее примерных, некими… некими, – доктор искал подходящее выражение и нашел его, вероятно, где-нибудь у Стивенсона, – факельсиками на пути прогресса.
– А я – нет. Я в них вижу этаких современных, гигиеничных, самодовольных вшей. Которые скачут по миру, застраивая его тюрьмами. Построят тюрьму и назовут это прогрессом, – добавил он не без горечи, сомневаясь, что доктор уловит аллюзию.
– Друг мой, вы положительно зациклились на тюрьмах! Восьмите другие достижения ваших собратьев. Они строят дороги, орошают пустыни, побеждают голод, строят школы, открывают больницы, борются с чумой, холерой, прокасой, оспой, венерическими болеснями…
– Которые сами же и завезли, – вставил Флори.
– Нет, сэр! – возразил доктор, стремясь приписать эту заслугу своим соотечественникам. – Нет, сэр, это индийцы савесли венерические болесни в эту страну. Индийцы савосят болесни, а англичане лечат. Вот и ответ на весь ваш пессимизм и бунтарство.
– Ну, доктор, мы никогда не придем к согласию. Факт в том, что вам нравится весь этот современный прогресс, а мне он слегка претит. Думаю, Бирма времен Тибо пришлась бы мне больше по вкусу. И, как я уже говорил, если мы кого и цивилизуем, то только ради большего барыша. Мы быстро дадим задний ход, если не получим выгоды.
– Друг мой, вы ведь так не думаете. Будь вы на самом деле противник Британской империи, вы бы не говорили об этом с гласу на глас. Вы бы саявляли это во всеуслышание. Я снаю ваш характер, мистер Флори, лучше, чем вы сами снаете себя.
– Простите, доктор; я не стану заявлять об этом во всеуслышание. Кишка тонка. Я «исповедую постыдное бездействие» [29], как старый Велиал в «Потерянном рае». Так надежней. В этой стране выбор простой: будь пакка-сахибом или умри. Я за пятнадцать лет ни с кем не говорил по душам, кроме вас. Мои беседы с вами – это предохранительный клапан; маленькая черная месса под шумок, если понимаете.
В этот момент кто-то отчаянно заскулил. На солнцепеке, у самой веранды, стоял старый индус Матту, дурван, то есть привратник европейской церкви. Он едва прикрывал наготу грязными лохмотьями и дрожал, словно в лихорадке, всем своим видом напоминая большого старого кузнечика. Жил он при церкви, в лачуге из расплющенных жестянок от керосина, откуда иногда суетливо вылезал, завидев европейца, чтобы отвесить земной поклон и пожаловаться на свой талаб [30], составлявший восемнадцать рупий в месяц. Сейчас он жалобно глядел на веранду, елозя одной рукой по грязному животу, а другой как бы кладя что-то в рот. Доктор засунул руку в карман и бросил через перила мелочь. Все попрошайки Чаутады знали о его мягкосердечии и регулярно к нему наведывались.
– Вот, уфрите вырождение востока, – сказал доктор, указывая на Матту, сгибавшегося пополам, точно гусеница, бормоча благодарности. – Посмотрите на его болесненные члены. У него икры тоньше, чем запястья европейцев. Посмотрите, как он жалок и угодлив. Посмотрите на его невежество – такое невежество неведомо в Европе са пределами психиатрических клиник. Как-то раз я спросил Матту, сколько ему лет. Он сказал, сахиб, мне вроде десять лет. И вы делаете вид, мистер Флори, что не превосходите естественным обрасом таких состаний?
– Бедный старый Матту; мощный рывок прогресса, похоже, обошел его стороной, – сказал Флори и тоже бросил мелочь через перила. – Давай, Матту, иди, напейся. Деградируй по полной. Утопия нас подождет.
– Аха, мистер Флори, иногда я думаю, все, что вы говорите, это сплошь – как это сказать – шутовство. Английское чувство юмора. У нас, асиатов, как всем исфестно, нет юмора.
– Счастливые вы, черти. Погибель наша, этот проклятый юмор, – он зевнул, закинув руки за голову, а Матту промямлил что-то благодарственное и зашаркал восвояси. – Пожалуй, мне надо идти, пока проклятое солнце не слишком высоко. Этот год будет адски жарким, костями чую. Ну, доктор, мы так увлеклись спорами, что я не спросил, что у вас нового. Я только вчера из джунглей. И послезавтра должен возвращаться – не знаю пока, поеду ли. Ничего такого не случилось в Чаутаде? Никаких скандалов?