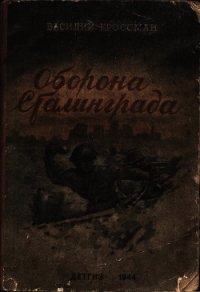За правое дело (Книга 1) - Гроссман Василий Семенович (книги бесплатно без онлайн txt) 📗
Она медленно прошлась вдоль стены, разглядывая детские рисунки. На одном был изображён воздушный бой: чёрные немецкие самолёты сыпались с неба, охваченные чёрным дымом и чёрным пламенем, среди них плыли огромные советские машины на красных крыльях и красных фюзеляжах выделялись нарисованные особо густой красной краской пятиконечные звезды. Лица советских лётчиков тоже были прочерчены красным карандашом.
На другом рисунке происходило сухопутное сражение: огромные красные пушки, изрыгая красное пламя, выбрасывали красные снаряды; среди взрывов, поднимавшихся иногда выше летевших в небе самолётов, гибли фашистские солдаты, в небе парили головы, руки, каски и большое количество немецких сапог. На третьем рисунке шли в атаку великаны красноармейцы, в могучих руках они держали наганы, размерами превышавшие чёрные немецкие пушчонки.
Отдельно в раме висела большая картина, писанная акварельными красками: молодые партизаны в лесу. Художник, очевидно, из группы старших детей, бесспорно обладал дарованием. Пушистые берёзки, освещённые солнцем, нарисованы были превосходно. У девушек-партизанок, шедших по лесу, были стройные фигуры, загорелые колени, икры были тщательно и любовно выписаны, чувствовалось, что живописец уже хорошо знал свой предмет. Мария Николаевна подумала о дочери? ведь и она становится взрослой, и на неё парни смотрят вот такими глазами, как этот молодой художник. Парни-партизаны были румяные, ладные, с голубыми глазами. И у девушек были миндалевидные глаза, чистые и прозрачные, как небо над их головой. У одной девушки волосы волнами падали по плечам, у другой сложенные косы лежали вокруг лба, у третьей был венок из белых цветов. Хотя картина понравилась Марусе, она заметила в ней один недостаток: у некоторых юношей и у девушек были уж очень схожи лица, нарисованные в профиль, с одним и тем же поворотом; очевидно, художник пририсовывал пленившее его лицо с прекрасными, устремлёнными ввысь глазами то к девичьему, то к юношескому телу, а затем уж украшал его косами или кудрями. Но всё же, несмотря на этот серьёзный недостаток, картина волновала и восхищала — в ней очень хорошо было выражено идеальное и чистое, благородное и ясное чувство.
Глядя на этот рисунок, Мария Николаевна вспомнила свои споры с Женей; конечно, она, а не Женя, права в этих спорах. Женя ведь рисует то, что нужно и интересно ей, а здесь нарисовано то, что нужно и важно всем.
Вошла заведующая Елизавета Савельевна — толстая, седая женщина с сердитым лицом. Она много лет была работницей на хлебозаводе, потом выдвинулась как общественница, работала в райкоме. Ей предложили работать заместителем директора на том заводе, где она когда-то была хлебомесом. Дело у неё не пошло, она не умела проявлять директорскую власть. Через месяц её сняли и назначили заведовать детским домом, и, хотя она перед этим окончила специальные курсы и работа эта ей нравилась, кое-что у неё и здесь не клеилось. Постоянно к ней приезжали инспектора, однажды ей вынесли выговор, а с месяц назад её вызывали в райком ко второму секретарю.
Мария Николаевна пожала руку Токаревой и сказала, что приехала по кляузным делам.
Они прошли по недавно вымытому прохладному коридору, пахнущему приятной сыростью.
Из за закрытой двери слышалось хоровое пение. Токарева, искоса поглядев на Марию Николаевну, объяснила:
— Это самая младшая группа, грамоте их учить рано, мы их пением занимаем.
Мария Николаевна приоткрыла дверь и увидела стоявших полукругом девочек.
В другой комнате сидел за столом курносый краснощёкий мальчик лет пяти и рисовал в тетрадке цветным карандашом. Он хмуро посмотрел на Токареву и отвернулся от неё, продолжая рисовать, сердито выпятив губы.
— Почему он тут один? — спросила Мария Николаевна.
— Озорничал, — ответила Токарева и громко, серьёзно добавила — Это Валентин Кузин. Он нарисовал себе чернильным карандашом на голом животе свастику.
— Какой ужас, — сказала Мария Николаевна. И, выйдя в коридор, рассмеялась.
У Токаревой, видимо, была слабость к занавесочкам и накидочкам. Они белели в её комнате и на окне, и на столе, и на кровати, и возле рукомойника. Над кроватью веером были повешены семейные фотографии — пожилые женщины в платочках, мужчины в чёрных рубахах с светлыми пуговицами. Тут же висели групповые снимки видимо, курсы партактива, стахановцы хлебозавода.
Сев за стол, Мария Николаевна раскрыла портфель, вынула пачку бумаг. Первый вопрос касался помощницы кладовщика Сухоноговой. Одна из воспитательниц случайно проходила мимо дома Сухоноговой и увидела, что мальчишка этой Сухоноговой щеголяет в детдомовских ботинках.
— Почему вы до сих пор не приняли мер? — спросила Мария Николаевна — Ведь заявление об этом давно сделано.
Токарева, не глядя на Марию Николаевну, ответила:
— Я расследовала подробно и к ней на дом ходила. Это не кража, действительно её мальчишка развалил сапоги и в конце зимы не мог в школу ходить, то коньки, то лыжи. Она сдала сапоги в починку, а ботинки взяла на два дня только, она эти ботинки обратно сдала, без износу, когда из ремонта сапоги вернули. А она говорит — то коньки, то лыжи, не заставишь дома сидеть. Ну и развалил сапоги. А ордеров в это время у меня не было. И ведь война и мужа с первых дней в армию взяли.
Мария Николаевна отлично понимала доводы Токаревой.
— Ох, — сказала она, — милый друг, я не спорю, что Сухоногова нуждается, но ведь это не повод, чтобы заимообразно брать ботинки из кладовой. Вы говорите война, да, вот именно война: теперь, как никогда, свята каждая государственная копейка, каждый кусок угля, каждый гвоздь... — Она на мгновение запнулась и тотчас, рассердившись сама на себя, продолжала: Подумайте, какие страдания переносит народ, какие реки крови льются в борьбе за советскую землю. Неужели вы не понимаете: нет места для рассусоливания в эти дни. Да я родную дочь покарала бы суровейшим образом, соверши она малейший проступок. Сделайте из нашей беседы соответствующий вывод, не тяните волынку.
— Я сделаю, конечно, сделаю, — сказала со вздохом Токарева и вдруг спросила — А как же насчёт эвакуации? Вопрос этот не понравился Марии Николаевне.
— Об этом, — сказала она, — вас известят.
— А дети сами говорят, — извиняющимся тоном проговорила Токарева — Ведь пережили сколько, одних бойцы подобрали, на машинах привезли, других беженцы подхватили, третьи сами кое-как приплелись. Ночью, когда самолёты летают, они лучше взрослых различают, какие немецкие, какие наши.
— Да, кстати, — сказала Мария Николаевна, — как Слава Берёзкин, которого я к вам определила? Мать просила узнать о нем.
— Не очень хорошо, он последние дни простужен. Вы сами с ним поговорите, пройдёмте в стационар.
— Попозже, когда кончим дела.
Мария Николаевна стала расспрашивать о чрезвычайных происшествиях в детском доме; их оказалось немного.
Один паренёк подрался с товарищем во время игры в футбол — наставил ему синяков. Второй, хорошо успевавший в занятиях, был встречен воспитательницей на толкучке, где он выпрашивал деньги на кино. Когда его стали расспрашивать, оказалось, что он деньги не тратил на кино, а копил их на чёрный день.
— А если детский дом разбомбят немцы, куда я тогда денусь? — сказал он.
Елизавета Савельевна к событиям такого рода относилась спокойно.
— Дети хорошие, — сказала она решительно. — В проступках раскаиваются, если пристыдить и объяснить. Подавляющее большинство честные, славные. Советские дети! Тут, между прочим, наций у меня с воины целый интернационал, раньше были только русские, а теперь стали прибывать с Украины и Белоруссии, и цыгане, и молдаване, и кто только хотите; и я даже сама удивилась, как дружно живут, никакого различия между собой не делают. А если иногда и подерутся, то на то они и ребята. На футболе это и не с детьми случается. Даже сплочение у них какое-то получилось: и русские, и украинцы, и армяне, и белорусы, а хор один...
— Это чудесно, — убеждённо сказала Мария Николаевна и вдруг взволновалась, — просто замечательно то, что вы рассказываете...