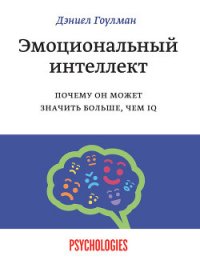Бумерит - Уилбер Кен (читать полную версию книги .TXT) 📗
– Я уже не вспоминал о Дарле, но эта Сила была… есть повсюду. Я до сих пор не знаю, как всё это объяснить. – Стюарт покачал головой, затем неожиданно произнёс, – Но всё, что произошло дальше, было ещё более странно.
– Никаких фактов – только интерпретации, между наукой и поэзией нет разницы, мы не открываем историю, мы изобретаем её. – Джефферсон легко рассмеялся, вышел в центр сцены.
– В подтверждение этих глупостей икона культурологии профессор Грег Денинг (Greg Dening) пишет книгу «Ругательства мистера Блая: страсть, сила и театр на „Баунти“». Будучи историком культуры, Денинг совершенно беззастенчиво объявляет всю историю вымыслом: «Я всегда говорю своим студентам, что мы не изучаем историю – мы создаём её… Я хочу убедить их, что любая история, которую они создадут, будет вымыслом – не фантазией, а именно вымыслом – чем-то сконструированным с определённой целью».
– История сводится к вымыслу, наука сводится к поэзии, все факты сводятся к интерпретациям… Господи боже, да как мы вообще до такого дошли?
– Я дошла до этого, потому что бумеры пожирают своих отпрысков, – говорит Хлоя.
– Хлоя, а что это вообще означает? И почему ты всё время это повторяешь? Вообще-то, это звучит довольно бессмысленно.
– Конечно, звучит, сладкий мальчик. А означает это то, что, как говорит Джефферсон, миром правят эго бумеров, и вполне естественно, что они пытаются скрыть факты, заменив их описанием собственной версии мира.
– Думаю, ты к ним слишком сурова.
– Ну, это же Джефферсон сказал, а не я.
– Он сказал, что есть хорошие новости и плохие новости, а ты говоришь только о плохих.
– Ладно, вот тебе хорошие новости, – говорит Хлоя, быстро снимает одежду и начинает тереться своим голым телом о моё тело. Она трётся, трётся и трётся, и моё тело начинает наполняться блаженством.
– Хлоя, – говорю я и смотрю ей в глаза, но вместо Хлои на меня смотрит Джоан Хэзелтон.
– Ничего себе! – выкрикнул я вслух, и все в зале засмеялись. Джефферсон оглядел аудиторию, чтобы понять, какой идиот поднял шум.
– Ничего страшного, – сказал он, – я помню, каково это первый раз в жизни попробовать пиво.
– Ну что, вернёмся к нашим баранам? Как мы дошли до такого жуткого редукционизма? Отчасти, он возник как противовес доминирующей точке зрения модернизма, что существуют только факты, что позитивизм – единственно верный подход к знанию и что победа будет за научным материализмом. Кроме того, вниманием к интерпретации мы в известной степени обязаны, во-первых, традиции герменевтики и её последователям от Дильтея до Гадамера, утверждавшим, что смысл – это самодостаточное явление, которое нельзя полностью свести к фактам, а во-вторых, последним открытиям структурализма, наглядно продемонстрировавшим, что смыслы, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни, формируются обширными языковыми системами – об этом говорил Соссюр, и вы сами вчера могли в этом убедиться на примере слова «лук». И наконец, внимание к интерпретации возросло благодаря важным работам Ницше и Хайдеггера, в которых подчёркивалось, что факты всегда встроены в культурный контекст и зависят от чьих-то интересов.
– Но существовала ещё одна сила, невероятно радикализировавшая все эти важные идеи: факты не окружены интерпретациями – фактов просто нет, и точка. Ферри и Рено точно знают, что это была за сила: это был нарциссизм. «Факты» ограничивают моё эго, значит «факты» должны уйти.
– Так считают не только Ферри и Рено. К похожему выводу, хотя и другими путями, приходит Раймон Арон (Raymond Aron) в своей книге «Ускользающая революция: анатомия студенческого бунта» («The Elusive Revolution: Anatomy of a Student Revolt»), о которой упоминают сами Ферри и Рено. Арон, считавшийся «богом среди интеллектуалов шестидесятых», писал: «в послевоенное время Сартр лишился своего влияния – его место заняли Леви-Стросс, Фуко, Альтюссер и Лакан» – структуралисты, вскоре уступившие место постстуктуралистам, о которых мы поговорим чуть позже. Вам ведь интересно, да?
Джефферсон оторвался от записей, улыбнулся, затем быстро посмотрел обратно и продолжил, как будто пытаясь поскорее продраться через чащу теории к более понятным выводам и успокоить студентов, которым приходилось думать.
– Ферри и Рено говорят об огромном влиянии теоретиков постструктурализма: «Париж с радостью воспринял формулировку „фактов не существует“, в результате чего была разрушена разумная вера в ограничение общества фактами», то есть в то, что в мире существует множество объективных реалий, которые необходимо принимать во внимание (необходимо, например, уйти с пути приближающегося автобуса). Но именно «вследствие исчезновения фактов, а значит, и ограничений, налагаемых фактами, постепенно начала распространяться идея о том, что можно доказать справедливость любого утверждения и нет необходимости устанавливать какие бы то ни было нормы в игре желания». В общем, если на пути эгоистического желания вставали факты, эти факты должны были быть деконструированы, ведь «никто не вправе указывать, что мне делать!»
– Можешь указывать, что мне делать, когда захочешь, большой мальчик, – говорит Хлоя, и её соблазнительная улыбка светится над её голой грудью.
– Не сейчас, Хлоя, мне нужно кое-что спросить у мамы.
Я поворачиваюсь к маме, совсем не удивляясь её присутствию рядом с голой Хлоей. К счастью, мама одета.
– У тебя очень красивая грудь, девочка.
– Мам, пожалуйста, посмотри на меня. Мам, что ты хочешь от жизни? Только серьёзно. В смысле, в жизни ведь должно быть что-то поважнее вытирания пыли?
– Вытирать пыль очень важно, моё милое дитя, – отвечает мама.
– Но зачем? Как говорит Квентин Крисп [96], главное потерпеть первые четыре года – потом грязнее уже не будет.
Мама равнодушно смотрит на меня.
– В общем, мам, расслабься, ладно? Знаешь старую шутку: невротики строят воздушные замки, психотики в них живут, а ты приходишь туда убираться.
Мама откладывает веничек для пыли и терпеливо объясняет.
– Я занимаюсь не только этим, сын. Я создала десяток организаций, направленных на обучение трансформации, глобальной дружбе, всемирному сотрудничеству, совместному исследованию и сознательному диалогу. У меня два высших образования, я преподаю йогу, я вырастила замечательного сына и выжила в браке с совершенно запутавшимся мужем. Я сама несу ответственность за свои оргазмы, – я густо покраснел, – и определяю себя не только через отношения, но и через собственную автономность. – Она удовлетворённо замолчала и снова взяла веничек. – И ещё я убираюсь.
– Но мама, чего ты хочешь?
– Я хочу, чтобы мир был одинаково хорош для всех, – не раздумывая ответила она, – чтобы в мире установилось равенство, справедливость, сострадание. Чтобы этот мир принимал всех.
Когда-то эти слова очень много для меня значили, ведь я сотни раз слышал их в детстве. Но теперь всё изменилось, в моём мозгу что-то щёлкнуло и даже мои фантазии стали другими.
– Но мама, разве ты хочешь, чтобы этот мир принимал нацистов и ку-клукс-клан? А как насчёт террористов, насильников и палачей? Для них мир тоже должен быть хорош?
Вид у мамы был озадаченный.
– Видишь, мама, ты зелёная, а не интегральная. Тебе нужно… понимаешь… должна быть… есть эволюция сознания и так далее и тому подобное, от эгоцентризма к мироцентризму, она действительно существует, действительно, и тебе необходимо ранжировать, чтобы по-настоящему связывать… снова и снова… именно так. В общем, это всё должно быть понятно, так что позволь мне подытожить.
96
Квентин Крисп (Quentin Crisp, 1908–1999 гг.) – английский писатель и гей-икона. – Прим. пер.