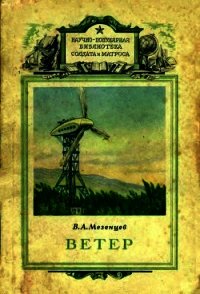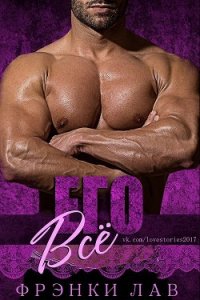Девушка в переводе - Квок Джин (версия книг txt) 📗
Несмотря на холод, я жутко потела от волнения. Что, если столкнусь с мистером Богартом или меня заметит кто-нибудь из одноклассников? Я ведь никогда прежде не делала ничего подобного. Как всякая хорошая китайская девочка, я всегда следовала правилам и радовалась учительской похвале. Но единственной альтернативой было вновь войти в класс мистера Богарта. Я впадала в отчаяние.
С болезненным чувством я тянула на себя тяжелую входную дверь, медленно вступая в темную пасть подъезда. Не снимая куртки, пробиралась в мрачную гостиную. Слабый солнечный свет с трудом пробивался сквозь грязные окна. Прежде я никогда по-настоящему не бывала дома одна и теперь чувствовала себя в относительной безопасности, лишь сидя в самом центре матраса. По крайней мере, издалека заметно, если подползают тараканы. В пустоте дверного проема могло материализоваться что угодно. Мусорные пакеты, закрывавшие кухонное окно, шелестели, а я размышляла, что грабителю не составило бы труда отодрать пленку и пробраться внутрь. А я могла бы выпрыгнуть в окно. И даже выжить, если бы удалось зацепиться пальцами за подоконник. Я развлекалась, придумывая выходы из всех непредвиденных ситуаций: загорится плита, в ванной появится привидение, нападет крыса, неожиданно вернется Ма, позабывшая что-то важное.
В квартире было очень сыро. Тот ноябрь выдался одним из самых холодных в истории Нью-Йорка. Чтобы не замерзнуть окончательно и не пугаться, я включала маленький телевизор. Его бормотание переносило меня в мир еды и лимонных аэрозолей. Я смотрела множество фильмов о больнице: врачи целовали медсестер, сестры целовали пациентов; фильмы о ковбоях и индейцах; многочисленные шоу, где люди сидели вокруг сцены, держа фонарики. Особенно загадочно звучала одна реклама. «Подними руки и будь уверен!» — грохотал голос диктора, а на экране мужчины и женщины победно вскидывали руки вверх. К чему бы это? Это имеет какое-то отношение к статуе Свободы?
«Увеличь словарный запас втрое за тридцать дней, — авторитетно наставлял серьезный мужской голос. — Удависвоих друзей. Покажи боссу, кто на самом деле босс». Я решительно выпрямилась, представив, как вхожу в класс и произношу слова, которых даже мистер Богарт не знает. И друзей давить не надо — у меня их здесь все равно нет. За этим последовала реклама вермишели в форме букв — сама идея привела меня в восторг, как и все, что связано с буквами. Тут я поняла, что проголодалась, так как наступило время обеда.
Я храбро прошла в темную кухню и заглянула в маленький облупленный холодильник. Ма не привыкла им пользоваться, и он был практически пуст. Я нашла только несколько жалких кусочков холодного цыпленка — косточки и жирная кожа, — пожелтевшие овощи с холодным рисом и плоскую коробочку устричного соуса. И не посмела ни к чему прикоснуться. Меня учили, что еду обязательно нужно разогреть. Дети в рекламе, которую я только что посмотрела, радостно ели сэндвичи с сыром, яблоки и пили молоко, но у меня не было хлеба, не говоря уже о том, что на него можно положить. Я боялась даже стакан воды выпить: однажды дома у меня был такой жуткий понос после некипяченой воды из-под крана, что я чуть не умерла. Ма всегда готовила мне горячую еду, когда мы вместе возвращались из школы, — паровую макрель с черными бобами, свиные шкварки, тыквенный суп, жареный рис с зеленым луком.
Я побрела назад к телевизору, в животе урчало. Сверкающие игрушечные кухни, мячи, такие огромные, что на них можно сидеть, детвора, поедающая хот-доги в ветвях деревьев. Рекламный ролик, в котором семья сидит за щедро накрытым длинным столом. Мне жутко захотелось оказаться в той комнате, где стоял стол. Там было так чисто, что можно было лечь прямо на пол. В нашей квартире я старалась ни к чему особенно не прикасаться. Даже после самой интенсивной уборки все словно было покрыто налетом из мертвых насекомых и мышиного помета. Я погрузилась в одну из своих самых любимых фантазий — что Па жив. Будь он здесь, возможно, нам вообще не пришлось бы работать на фабрике. Он сумел бы найти хорошую работу, и мы тогда зажили, как те люди в рекламе.
Но даже с включенным телевизором тоскливый серый день тянулся невыносимо долго, и я все думала и думала о Ма, которая в одиночку работает сейчас на фабрике. Я представляла ее аккуратные руки, медленно скользящие по отглаженной одежде. Как она, должно быть, устала. Но я не могла пойти к ней сейчас, потому что якобы была в школе. Мышь пробежала по полу и скрылась в кухне, я подпрыгнула от неожиданности. Швабру я держала наготове, чтобы обороняться от тараканов и других незваных гостей; если насекомые начинали шебуршать неподалеку от матраса, я стучала шваброй, отгоняя их, но стараясь не раздавить. Отчасти в силу буддистского воспитания, призывавшего ценить жизнь во всех проявлениях, но еще больше потому, что не хотела видеть размазанные по стене трупики.
От скуки я принялась рыться в вещах Ма. В чемодане обнаружила квадратную картонную коробочку с диском, заботливо перевязанную бечевкой. Видимо, эта запись представляла огромную эмоциональную ценность для Ма. Никаких других причин хранить ее не было, у нас ведь здесь даже не на чем ее прослушать. Я осторожно открыла коробочку, рассчитывая найти китайскую оперу, но вместо этого с удивлением обнаружила итальянскую. Карузо поет арию Каварадосси из «Тоски». Фотография выпорхнула на пол. И тогда я вспомнила: наша гонконгская квартира, я лежу на диване, под потолком гудит вентилятор, а Ма включает мне музыку перед сном. Наша обычная практика: одна песня — и в кровать. Как правило, она выбирала китайскую мелодию, но в тот вечер поставила запись мужчины, печально певшего на чужом языке, слова песни сопровождали вздохи сожаления. Ма отвернулась, пряча лицо.
И в тот вечер, и еще много раз я засыпала, думая о жизни Ма и о горьких воспоминаниях, связанных для нее с той музыкой. Я знала, что ее родители были образованными, интеллигентными людьми, землевладельцами, и поэтому их несправедливо приговорили к смертной казни во время «культурной революции». Перед смертью они потратили все оставшиеся средства, чтобы вывезти Ма и Тетю Полу из Китая в Гонконг, пока не стало слишком поздно. А потом любовь всей жизни Ма, мой Па, ушел от нее совсем молодым, едва за сорок, — вечером лег спать с головной болью, а ночью скончался от инсульта.
Я подобрала фотографию, выпавшую из конверта с записью, — ту, что стояла в рамке на пианино в нашей гостиной в Гонконге. У нас, как у многих тамошних жителей, не было фотоаппарата, это чересчур дорого, так что осталась единственная фотография, на которой запечатлены мы втроем. Несмотря на некоторую скованность, три головы чуть наклонены друг к другу — нежно, как в настоящей семье. Ма чудесно выглядит, лицо маленькое, изящное, светлая кожа обтягивает тонкие кости; рядом Па, просто идеальная для нее пара — темные светящиеся глаза, точеное красивое лицо, как у кинозвезды. Я смотрела на его руки, одна из которых нежно — как мне казалось — сжимала детский локоток, мой. Это была героическая рука, которая могла бы сжимать тяжелый плуг, защищать от демонов и разбойников. И я, двухлетняя, на коленях у Па, с любопытством смотрю в объектив. На мне матросский костюмчик, и рука поднята ко лбу в военном приветствии — несомненно, идея фотографа. Счастливый ребенок. Неужели я действительно была такой славной и радостной?
На обратной стороне снимка несколько слов. Наши имена и дата. Почерк не Ма, значит, его. Я еле касаясь провела пальцем по неровностям, оставленным ручкой на плотной бумаге. Это был мой Па, его рука написала эти слова.
Больше у меня ничего не осталось на память. Но, как ни велика была моя потеря, утрата Ма все же гораздо больше. Она знала и любила его, после его смерти она осталась совсем одна, и ей пришлось растить меня в одиночку. Я бережно положила на место фотографию и диск с записью. И мне еще больше захотелось помочь Ма.
Наконец-то можно было отправляться на фабрику. Я прошла мимо тележки с надписью «Хот-дог». Продавец предлагал тонкие сосиски в булочке, политые сверху желтым соусом. Выглядело и пахло соблазнительно, но у меня в кармане был только жетон на метро и десять центов на экстренный звонок по телефону. У турникета стоял полицейский с пистолетом на ремне и внимательно смотрел, как я опускаю свой жетон в прорезь.