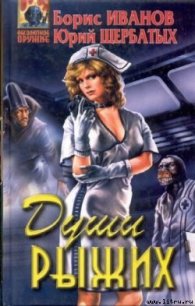Иванов катер. Не стреляйте белых лебедей. Самый последний день. Вы чье, старичье? Великолепная шесте - Васильев Борис Львович
— Присаживайтесь, — сказал Анатолий. — Можете закурить.
«Советский Союз», — подумал Ковалев. — Сорок копеек пачечка…»
И сказал:
— А закурить-то у тебя найдется?
Парень хлопнул по карману, метнулся к дверям:
— Сейчас!
Услужлив он сегодня был, ох услужлив! И вежливостью от него несло, как одеколоном из парикмахерской…
— Вот, пожалуйста.
«БТ». Младший лейтенант даже обрадовался, что другими оказались сигареты. Почему обрадовался, и сам понять не мог, но обрадовался.
И закурил, хоть от сигареток этих в горле у него першило.
— Жалуются на тебя соседи, что нарушаешь ты постановление горсовета.
— Какое постановление?
— Насчет шумов. Магнитофон у тебя больно зычный, Анатолий. На весь квартал хватает.
— Так ведь музыка. Искусство, товарищ младший лейтенант.
Осваивается понемногу, раз об искусстве заговорил. Значит, страх проходит. Перед чем же страх-то был? Что его напугало?
— Искусством, согласно постановлению горсовета, заниматься можно до двадцати трех часов. А потом — конец всякому искусству. Ясно?
— Усвоил.
— Если бы ты песни красивые играл, тогда бы и нареканий не было. А у тебя будто режут кого. Орут какие-то нетрезвые на иностранных языках. И орут громко.
— Вы попутно и эстетике обучаете?
— Попутно. — Ковалев поднял палец. — Именно что попутно, Анатолий. Это ты умно сказал.
И замолчал. Пыхтел себе сигареткой, разглядывал громоздкие комоды и ждал. Видел, как Анатолия вдруг в краску кинуло, как закурил он…
— А что вам, собственно, нужно? Неужели ради магнитофона этого?..
Не выдержал. Брякнул с нервов и замолчал. Проболтаться боится, что ли?
— Попутно, — повторил Семен Митрофанович. — Магнитофон — это попутно. Веткиных знаешь?
— Не знаю я никаких Веткиных!..
Громко слишком выкрикнул. Слишком громко.
— Среди прочих вещей, что взяли у них, туфли лаковые числились. Иностранного производства туфли: дочка их за границей купила и у родителей на хранение оставила.
— Ну и что из того? — грубо перебил Анатолий. — Мне-то что до этих туфель заграничного производства?
— А то, что они у тебя в передней стоят, эти туфли.
Это он спокойно сказал, размеренно. Сказал и ждал, что будет. Вскочит Анатолий, закричит, покраснеет — что?.. Что-то должно было произойти, потому что туфли эти он видел собственными глазами и сейчас по первой реакции парня должен был понять, знает ли сам Анатолий, что туфельки эти — ворованные?..
И промахнулся. Позорно, как первогодок несмышленый, опечатку допустил. Крупнейшую опечатку!..
Не вскочил Анатолий. Не закричал, не покраснел — спросил. Спокойно спросил, улыбаясь:
— Какие туфли, товарищ младший лейтенант?
Все понял Семен Митрофанович. По глазам, по чуть прорвавшемуся торжеству, по спокойствию. И поэтому снял этот вопрос с повестки как неоправданный:
— Шучу я, Анатолий. Шучу!
Встал, пошел к двери — Анатолий и здесь поспел предупредительно распахнуть ее. Вышел в коридор, стрельнул по полу глазами: все правильно. Тю-тю туфельки те вместе с ножками! С приветом, как говорится!..
— Вместо меня теперь будет Степан Данилыч Степешко, — официально сказал Ковалев. — Ты уж не беспокой его нарушениями, ладно? Как-нибудь до двадцати трех укладывайся в рамки.
— Уложусь.
— Ну, счастливо тебе, Анатолий. — Шагнул к дверям, обернулся вдруг. — А ведь туфельки-то были. Были, Толя, вот ведь какой факт получается. Так что учти. Если умный.
И вышел. Нарочно быстро вышел, чтоб парень наедине с его последними словами остался. Очень это сейчас было важно: оставить его наедине с этими словами.
А сам во второй дом направился: из семиэтажек — второй. И пока шел, улыбался: перехитрила его, старого волка, молодежь эта магнитофонная. Провела да вывела без стука, без шороха, пока он над собственными планами потел. Ну и правильно сделала: не держишь ногу — выходи из строя. Еще одно доказательство, что в самый цвет он рапорт подал. В самый раз, в яблочко.
Нет, не верил он, что Анатолий в квартирной краже замешан. Ну задирист парень, ну нагрубить может, ну старших не почитает, ну с девчонками там, с винцом замечен — так ведь от этого до уголовщины никакая ниточка не ведет.
Совсем это разные вещи, и под один параграф ставить их не следует: ошибочно это. Да и по характеру Анатолий не из тех, что в капезе, как в собственную квартиру, приходят. Он ведь не милиции боится, он запачкаться боится и, значит, именем своим дорожит. А это тормоз надежный.
Однако воробьиха была у него? Вроде была. Туфли на полу в прихожей лежали? Лежали. Без всяких «вроде»: точно лежали. И ждал Анатолий кого-то, с нетерпением ждал. Кого, спрашивается?
7
Вопросы эти в книжку он заносить не стал, а решил при встрече ознакомить с ними Данилыча. Не просто ознакомить: обсудить. Насчет профилактики и девчонки этой. Воробьихи…
— Не заперто! Входите!
Он и не заметил, как к Агнессе Павловне постучал.
Вошел, снял фуражку, крикнул в гулкую квартиру:
— Добрый день, Агнесса Павловна! Это из милиции к вам. Семен Митрофанович.
— Ну, что там еще? Погодите, оденусь!
Усмехнулся Ковалев: то не заперто, то погодите. Странный народ, женщины одинокие!
Агнесса Павловна в тридцать овдовела, красивая бабенка была, тугая, ядреная, и все соразмерно, ничего не скажешь. Завидная вдовушка: и квартира, и дача, и машина, и в самом соку. Однако тогда она не спешила. Тогда она так считала, что лучше быть вдовой профессора, чем женой аспиранта. И жила не задумываясь, точно раскручивала много лет назад взведенную пружину. Без оглядки жила, словно на бегу. Ну а теперь… теперь добежала. Теперь ей самая пора была к месту причаливать, на якорь становиться, а якоря-то этого в наличии и не имелось. О якоре своевременно заботиться следует, и умные люди его загодя подбирают…
— Входите!
Дух в большой комнате стоял, точно в милицейской курилке под утро. И окурки везде понатыканы: в пепельницах, в тарелках, в цветах. И рюмки немытые на столе и бутылки пустые: хороший кавардак здесь вчера устраивался, на всю катушку…
Младший лейтенант первым делом окна настежь распахнул, чтоб выдуло весь этот кабацкий дух к чертовой матери. Тут Агнесса Павловна вошла — в пестром халате, зеленая то ли с пересыпу, то ли с перекуру. Сказала безразлично:
— А, это вы…
Плюхнулась в кресло, схватила сигарету. Семен Митрофанович ждал у окна, пока она в соображение войдет. Ждал, глядел на измятое, безжизненное лицо этой еще совсем нестарой женщины, на дрожащие пальцы и жалел ее. Раздраженно жалел, дурой чертовой про себя ругая.
— Хотите кофе, Семен Митрофанович? Я вам по-особому сварю: меня композитор один научил.
— Это потом, спасибо. Тихо вы вчера гуляли.
— При закрытых окнах. — Она усмехнулась. — Цените, Семен Митрофанович.
— Ценю, — серьезно сказал он.
Не отшутился: правду сказал. Он уважал ее, беспутную, добрую и очень одинокую. И она его уважала: вся гульба здесь втихую шла, за тяжелыми шторами, чтобы ему, младшему лейтенанту Ковалеву, поменьше было беспокойства.
— С прошедшими именинами вас.
Она покивала. Потом вдруг улыбнулась, даже глаза чуть ожили.
— Учтите: мне — тридцать девять, и ни на один день больше!
Сорок три ей вчера исполнилось, но точность здесь была ни к чему. А вздохнул Семен Митрофанович по другому поводу:
— Себя бы пожалели.
Всерьез сказал, и не во исполнение параграфа — от души. Сроду бы он никогда себе не признался, что… Ну, да что уж там: он милиционер, а она — кофе с композиторами… Да и потом, усмехнулся Ковалев, ему завтра на пенсию, а ей вчера — тридцать девять, и ни на один день больше. И вздохнул:
— Пожалели бы вы себя, Агнесса Павловна!
— А!.. — Она беспечно махнула рукой, сигарета немного привела ее в чувство. — Так как же насчет кофе?
— Кофе?.. — Он прошел, сел напротив. — Это потом. Сами выпьете. Я ведь просто так зашел. Попрощаться зашел, точнее сказать.