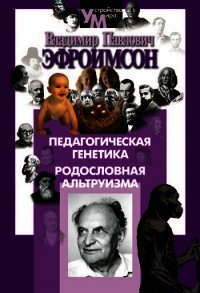Том 3. Педагогическая поэма - Макаренко Антон Семенович (бесплатные полные книги .TXT) 📗
Уже нет симфонии молотьбы. Теперь захватила дыхание высокоголосая какофония хохота и стонов, даже Шере смеется, даже машинисты бросили машину и хохочут, держась за грязные колени. Галатенко поворачивается к спальням. Силантий пристально смотрит на его спину:
— Смотри ж ты, какая, брат, история…
Галатенко останавливается и что-то соображает. Карабанов кричит ему с высоты соломенного намета:
— Ну чего ж ты стал? Иди же!
Но Галатенко растягивает рот до ушей. Он понял, в чем дело. Не спеша он возвращается к рижну и улыбается. На соломе хлопцы его спрашивают:
— Куда это ты ходил?
— Та Лапоть придумал, понимаешь, — принеси ему запасные руки.
— Ну и что же?
— Та нэма у него никаких запасных рук, брешет все.
Бурун командует:
— Отставить запасные руки! Продолжать!
— Отставить так отставить, — говорит Лапоть, — будем и этими как-нибудь.
В девять часов Шере останавливает машину и подходит к Буруну:
— Уже валятся хлопцы. А еще на полчаса.
— Ничего, — говорит Бурун. — Кончим.
Лапоть орет сверху:
— Товарищи горьковцы! Осталось еще на полчаса. Так я боюсь, что за полчаса мы здорово заморимся. Я не согласен.
— А чего ж ты хочешь? — насторожился Бурун.
— Я протестую! За полчаса ноги вытянем. правда ж, Галатенко?
— Та, конечно ж, правда. Полчаса — это много.
Лапоть подымает кулак.
— Нельзя полчаса. Надо все это кончить, всю эту кучу за четверть часа. Никаких полчаса!
— Правильно! — орет и Галатенко. — Это он правильно говорит.
Под новый взрыв хохота Шере включает машину. Еще через двадцать минут — все кончено. И сразу на всех нападает желание повалиться на солому и заснуть. Но Бурун командует:
— Стройся!
К переднему ряду подбегают трубачи и барабанщики, давно уже ожидающие своего часа. Четвертый сводный эскортирует знамя на его место в белом доме. Я задерживаюсь на току, и от белого дома до меня долетают звуки знаменного салюта.
В темноте на меня наступает какая-то фигура с длинной палкой в руке.
— Кто это?
— А это я, Антон Семенович. Вот пришел к вам насчет молотилки, это, значит, с Воловьего хутора, и я ж буду Воловик по хвамилии…
— Добре. Пойдем в хату.
Мы тоже направляемся к белому дому. Воловик, старый видно, шамкает в темноте.
— Хорошо это у вас, как у людей раньше было…
— Чего это?
— Да вот, видите, с крестным ходом молотите, по-настоящему.
— Да где же крестный ход! Это знамя. И попа у нас нету.
Воловик немного забегает вперед и жестикулирует палкой в воздухе:
— Да не в том справа, что попа нету. А в том, что вроде как люди празднуют, выходит так, будто праздник. Видишь, хлеб собрать человеку — торжество из торжеств, а у нас люди забыли про это.
У белого дома шумно. Как ни усталости колонисты, все же полезли в речку, а после купанья — и усталости как будто нет. За столами в саду радостно и разговорчиво, и Марии Кондратьевне хочется плакать от разных причин: от усталости, от любви к колонистам, оттого, что восстановлен и в ее жизни правильный человеческий закон, попробовала и она прелести трудового свободного коллектива.
— Легкая была у вас работа? — спрашивает ее Бурун.
— Не знаю, — говорит Мария Кондратьевна, — наверное, трудная, только не в том дело. Такая работа все равно — счастье.
За ужином подсел ко мне Силантий и засекретничал:
— Там это, сказали вам, здесь это, передать, значит: в воскресенье к вам люди, как говорится, придут, насчет Ольки. Видишь, какая история.
— Это от Николаенко?
— Здесь это, от Павло Павловича, старика, значит. Так ты, Антон Семенович, как это говорится, постарайся: рушники, видишь, здесь это, полагается, и хлеб, и соль, и больше никаких данных.
— Голубчик, Силантий, так ты это и устрой все.
— Здесь это, устрою, как говорится, так видишь, такая, брат, история: полагается в таком месте выпить, самогонку или что, видишь.
— Самогонку нельзя, Силантий, а вина сладкого купи две бутылки.
10. Свадьба
В воскресенье пришли люди от Павла Ивановича Николаенко. Пришли знакомые: Кузьма Петрович Магарыч и Осип Иванович Стомуха. Кузьму Петровича в колонии все хорошо знали, потому что он жил недалеко от нас, за рекой. Это был разговорчивый, но не солидный человек. У него было засоренное песчаное поле, на которое он почти никогда не выезжал, и росла на том поле всякая дрянь, большею частью по собственной инициативе. Через это поле было протоптано неисчислимое количество дорожек, потому что оно у всех лежало на пути. Лицо Кузьмы Петровича было похоже на его поле, и на нем ничего путного не растет, и тоже кажется, будто каждый куст грязновато-черной бороденки растет по собственной инициативе, не считаясь с интересами хозяина. И по лицу его были проложены многочисленные тропинки морщин, складок, канавок. От своего поля только тем отличался Кузьма Петрович, что на поле не торчало такого тонкого и длинного носа.
Осип Иванович Стомуха, напротив, отличался красотой. Во всей Гончаровке не было такого стройного и красивого мужчины, как Осип Иванович. У него был большой и рыжий ус и нахально-скульптурные, хорошего рисунка глаза; он носил полугородской, полувоенный костюм и умел всегда казаться подтянутым и тонким. У Осипа было много родственников из очень заможнего селянства, но сам он почему-то земли не имел, а пробавлялся охотой. Он жил на самом берегу реки в одинокой, убежавшей из села хате.
Хоть и ожидали мы гостей, но они застали нас слабо подготовленными — да и кто его знает, как нужно было готовиться к такому непривычному делу? Впрочем, когда они вошли в мой кабинет, в нем было солидно, тихо и внушительно. Застали они только меня и Калину Ивановича. Гости вошли, пожали нам руки и уселись на диване. Я не знал, как начинать. Осип Иванович обрадовал меня, когда начал просто:
— Раньше в таких делах про охотников рассказывали: шли мы на охоту та проследили лисицу, красную девицу, а та лисица — красная девица… та я думаю, что это не надо теперь, хоть я ж и охотник.
— Это правильно, — сказал я.
Кузьма Петрович засеменил ногами, сидя на диване, и помотал бороденкой:
— Дурачество это, я так скажу.
— Не то что дурачество, а не ко времени, — поправил Стомуха.
— Время разное бываеть, — начал поучительно Калина Иванович. — Бываеть народ темный, так ему еще мало, он еще и сам всякую потьму на себя напускаеть, а потом и живеть, как остолоп какой, всего боится: и грома, и месяца, и кошки. А теперь совецькая власть, хэ-хэ, теперь разве заградительного отряду надо бояться, а то все нестрашно…
Стомуха перебил Калину Ивановича, который, очевидно, забыл, что собрались не для ученых разговоров:
— Мы просто скажем: прислал нас известный вам Павел Иванович и супруга его Евдокия Степановна. Вы — как отец здесь, в колонии, так чи не отдадите вашу, так сказать, вроде приблизительно дочку Олю Воронову за ихнего сына Павла Павловича, он же теперь председатель сельсовета.
— Просим нам ответ дать, — запищал Кузьма Петрович. — Если есть ваше такое согласие, как уже и батько хотят, дадите нам рушники и хлеб, а если такого согласия вашего не последует, то просим не обижаться, что побеспокоили.
— Хэ-хэ-хэ, того будет малувато, что просим не обижаться, — сказал Калина Иванович, — а полагается по этому дурацькому вашему закону гарбуза домой нести.
— Гарбуза не сподиваемося, — улыбнулся Осип Иванович, — да и время теперь такое, что гарбуз еще не вродился.
— Она-то правда, — согласился Калина Иванович. — То раньше девка, гордая если сдуру, так она нарочно полную комору гарбузов держала. А если женихи не приходили, так она, паразитка, кашу варила. Хорошая гарбузяная каша, особенно если с пшеном…
— Так какой ваш родительский ответ будет? — спросил Осип Иванович.
Я ответил:
— Спасибо вам, Павлу Ивановичу и Евдокии Степановне за честь. Только я не отец, и власть у меня не родительская. Само собой. нужно спросить Олю, а потом для всяких подробностей надо постановить совету командиров.