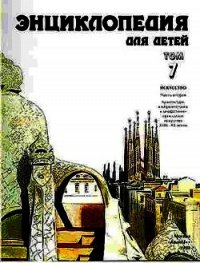Философия искусства - Шеллинг Фридрих Вильгельм (книги онлайн бесплатно TXT) 📗
парящего между противоположностями размера, каков гекзаметр в античном искусстве; все новые метры гораздо более индивидуальны и сводятся к определенному тону, оттенку, настроению и т. д. Наиболее однородный размер нового времени — стансы, но в них нет той видимости непосредственного вдохновения и зависимости от развития сюжета, какая есть у гекзаметра, уже потому, что это не однообразный, а делящийся по строфам метр Который ввиду этого вообще более искусствен и скорее есть творчество поэта, чем форма изображаемого предмета. Таким образом, роману, который пытается при более ограниченной материи достигнуть объективности эпоса в форме, не остается ничего, кроме прозы, проза же есть высшая неразличимость; в данном случае проза берется в ее наиболее совершенной форме, где она сопровождается незаметным ритмом и упорядоченным построением периодов, не столь внятным для уха, как ритмический метр стиха, но зато в то же время лишенным и следа принужденности и поэтому требующим самой тщательной обработки. Кто не чувствует этого ритма прозы в «Дон-Кихоте» и в «Вильгельме Мейстере», того, конечно, нельзя этому научить. Подобно эпической дикции эта проза или, лучше сказать, этот стиль романа имеет право задерживаться, распространяться, затрагивать все, даже малейшее, что попадается на его пути, но он также не должен размениваться па разные украшения, В особенности на пустые словесные украшения, ибо это непосредственно граничит с самым невыносимым злом — с так называемой поэтической прозой.
Коль скоро роман не может быть драматичен и все же, с другой стороны, должен в форм»1 изложения добиваться объективности эпоса, то наиболее красивая и уместная форма романа необходимо будет формой повествовательной. Роман в письмах сплошь состоит из лирических отрывков, которые в целом превращаются в драматические, в связи с чем утрачивается эпический характер.
Так как по форме изложения роман должен самым тесным образом примыкать к эпосу и все же в нем материал доставляется, собственно говоря, ограниченным сюжетом, поэт по сравнению с автором эпической поэмы должен заменять эпическую общезначимость относительно еще большим безучастием к центральному предмету или к герою. Поэтому он не должен слишком упорно держаться за своего героя; еще менее он дол жен как бы все подчинять ему в своем произведении. Так как ограниченное взято лишь для того, чтобы в форме изображения показать абсолютное, то герой уже как бы по самой своей природе обладает скорее символическим, нежели личным, характером; таким он и должен быть в романе, чтобы с ним все можно было легко связать, чтобы он стал коллективным именем, перевязью вокруг целого снопа204.
Безразличие имеет право заходить так далеко, что может даже перейти в иронию над героем; ведь ирония — единственная форма, в которой то, что исходит или должно исходить от субъекта, самым определенным образом от него отделяется и объективируется. Таким образом, несовершенство в этом отношении ни в какой мере не может повредить герою, наоборот, мнимое совершенство уничтожит роман. Сюда же относится и замечание о способности героя замедлить повествование, которое Гёте в «Вильгельме Мейстере» вкладывает с особой иронией в уста самого героя205. Так как, с одной стороны, роман неизбежно тяготеет к драматическому и все же, с другой — должен отличаться медлительностью наподобие эпоса, то он должен вложить эту силу, сдерживающую быстрое развитие действия, в объект, т. е. в самого героя. Таков смысл слов Гёте, когда он в том же самом месте «Вильгельма Мейстера» говорит: в романе должны быть представлены главным образом настроения и события, в драме — характеры и действия. Первые ограничены лишь известным временем и ситуацией, они менее постоянны, чем характер; характер непосредственнее стремится к действию и завершению, чем помыслы, и поступки решительнее событий; я имею в виду поступок, каким он исходит из решительного и сильного характера и требует известного совершенства последнего как в добре, так и в зле. Разумеется, это не следует понимать как полное отрицание энергии в герое, и удачнейшим объединением всегда останется то, которое дано в «Дон-Кихоте», где поступок, вытекающий из характера, становится для героя событием благодаря окружению и обстоятельствам.
Роман должен быть зеркалом мира, по меньшей мере зеркалом своего века и, таким образом, частной мифологией. Он должен склонять к ясному спокойному созерцанию и вызывать ко всему участие; любая часть романа, каждое слово должно быть как бы золотым, должно быть включено в сокровенный метр высшего порядка, коль скоро внешний ритм отсутствует. Поэтому роман может быть плодом лишь вполне зрелого духа, как и древняя традиция неизменно рисует Гомера старцем. Роман есть как бы окончательное прояснение духа, благодаря которому он возвращается к самому себе и снова превращает свою жизнь и развитие в цветок; он представляет собой плод, но плод, увенчанный цветами.
Роман, затрагивая в человеке все, должен привести в движение и страсть; ему дозволен предельный трагизм, равно как и комизм, но с тем условием, чтобы сам поэт оставался не задетым ни тем, ни другим.
Уже раньше мы указали по поводу эпоса, что в нем допускается случайное; роман имеет еще большее право распоряжаться всеми средствами но своему усмотрению: вводить неожиданность, осложнение и случайность; разумеется, не все должно решаться случайностью, ибо в противном случае место подлинной картины жизни займет причудливый, односторонний принцип. С другой стороны, если роман имеет право заимствовать у эпоса элемент случайности в событиях, то принцип судьбы, содержащийся и нем благодаря его тяготению к драме, также слишком односторонен и вместе с тем слишком резок для более широкой и гибкой природы романа. Характер — это тоже необходимость, которая может стать судьбой человека, поэтому в романе характер и случайность должны идти рука об руку, и в этом их положении относительно друг друга главным образом и обнаруживается мудрость и изобретательность поэта.
Роман благодаря своему близкому сродству с драмой в большей степени основан на противоположностях, нежели эпос, поэтому он должен преимущественно использовать эту противоположность в целях иронии и для живописности изображения наподобие той картины из «Дон-Кихота», где Дон-Кихот и Карденио, сидя в лесу друг против друга, вполне разумно выражают друг другу сочувствие, пока безумие одного не пробуждает безумие другого. Итак, в общем роман имеет право стремиться к живописности, ведь так можно, вообще говоря, назвать некоторый род драматизма, но мимолетный. Само собой разумеется, эта живописная сторона всегда должна обладать известным составом, должна быть связана с душой, нравами, народами, событиями. Что может быть в этом смысле живописнее, чем появление Марчеллы в «Дон-Кихоте» на вершине утеса, когда у его подножия хоронят того пастуха, которого любовь к ней лишила жизни?
Там, где почва поэмы не благоприятствует живописности, поэту приходится ее создавать подобно Гёте в «Вильгельме Мейстере»; Миньона, арфист, дом дяди — всецело его измышление. Все романтическое, что можно найти в нравах, должно быть взято; нельзя пренебрегать приключениями, если они могут служить целям символики. Обыденная действительность подлежит воспроизведению, чтобы стать .предметом иронии и какого-либо противопоставления.
Разделение событий представляет другую тайну искусства. Они должны быть размещены мудро, и в том случае, если к концу поток (расширяется и замысел раскрывается во всем своем великолепии, события все же нигде не должны ни нагромождаться друг на друга, ни теснить, ни торопить друг друга. Все так называемые эпизоды либо должны принадлежать существу целого, органически быть с ним связанными (Сперата), не быть к ним пришитыми с единственной целью поговорить о том и этом, либо должны быть «ведены совершенно самостоятельно, как новеллы, против чего не приходится возражать.