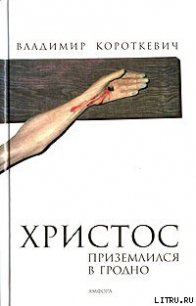Колосья под серпом твоим - Короткевич Владимир Семенович (читать книги полностью .TXT) 📗
Глаза Кaстуся блестели.
— И разве не все равно, если покойная мать не знала иного языка, и братья мои, и я сам не знал до прогимназии другого… Вы знаете, какая та единственная песня, которую я помню от матери?
Шчыравала ў бары пчала,
Па верхавінках лятаючы, салодкі мёд збіраючы…
Вежа молчал.
— Белорус, — с глухой иронией произнес он. — Друг бредовых мечтаний моего внука. Что ж… Бог с тобой, сыне. Пусть тебе доля дает счастье.
И добавил:
— Психопаты… Неразумные… Мамкины сынки, пахнущие молоком… Что же это с вами будет, а?
…В тот год Приднепровье опять постигла беда — страшный летний паводок. Словно какое-то наваждение: вода стояла на уровне среднего весеннего половодья. Днепр залил луга, овраги, прибрежные поля. Старые русла превратились в протоки, в длинные озера.
Вода спадала понемногу, и по всему было видно, что Днепр войдет в русло лишь в начале сентября. На стволах деревьев, что освободились от воды, был тонкий пушок кореньев, — так долго стоял паводок. На пригорках коричневая корка тины лежала, словно войлок, и ноги человека ломали ее, оставляя дырки, в которых была видна чахлая, желтовато-зеленая, как в погребе, трава. Было ясно — сенокос на низинах пропал.
Кастусь с Алесем, держа в руках бредень, шли лугом. И бредень, развернутая двойная рама, обтянутая мережей, напоминал огромного прозрачного мотылька.
Шли по колено в воде. Приходилось грудью прокладывать себе дорогу в траве. Малиновый кипрей щекотал разгоряченное лицо, вьюнок цеплялся за ноги. Все вокруг краснело, белело, желтело.
Казалось, зацвело безграничное неглубокое море. Потому что травы стояли в воде, присыпанные разноцветной цветочной пыльцой.
Остановились на краю яруги — длинной, неглубокой котловины. Цветы словно застыли на ее берегах, открывая зеркальца чистой, блестящей воды.
Кастусь одним глазом глянул в мешок, подвязанный веревкой к шее. В нем переливались тускло-золотые лини, холодные густерки и голубовато-зеленые небольшие щучки.
— А неплохо мы ухватили, — сказал Кастусь.
— Это еще мало. — Алесь был красный и немного вспотевший. — Вода высокая мешает. Обычно по старицам раза за четыре столько натрясешь, а тут полдня ходим.
— Все равно интересно. Даже лучше, что много ходим.
— Ничего, — сказал Алесь, — сейчас дойдем до городища — отдохнем на сухом. А то тут и сесть негде.
— Как это негде? — удивился Кастусь.
И сел по самую грудь в воду. Сидел и смеялся. Торба с рыбой всплыла и начала шевелиться, ожила.
— Удобно, — сказал Кастусь. — Словно в теплой ванне сидишь. Только чтоб рак за какое место не ухватил.
— Здесь их нет, — успокоил Алесь. — Они под корягами да под берегом. И потом — мало стало раков. Года три назад мор какой-то на них напал. Берега кипели вороньем.
— Это они, наверно, с горя подохли. Нашелся на них какой-то свой Алексашка, — показал Кастусь белые красивые зубы.
— А что тебе этот Алексашка?
— А черт его знает. Обещает много. А у самого если и есть что хорошее, так это шевелюра и баки, да еще усы. Как пики. Но это уже скорее от парикмахера зависит.
И добавил:
— Подбородок у него безвольный. А безвольные люди — ох как часто они бывают упрямы и злобны! Из-за каждого своего каприза могут соседу шею свернуть. Как будто стараются доказать, что и у них твердость есть.
Кастусь болтнул ногами в воде.
— Справедливости, видимо, и теперь не будет. У нас вообще справедливость эту своеобразно понимают. Черной памяти Семашко [93] сам унию оставил и силой начал паству в православие загонять. Тут уж все, что хочешь, бывает — и страшное, и смешное. Смех у нас, как известно, тоже не дай бог! В петлю хочется лезть от такого. То режут людям бороды, а с тех, кто того не желает, мыт за бороду берут. А тут заставили бывших униатских попов бороды отращивать да одежду менять. Все зобородели, как козлы. И тут Семашке донос: поп такой-то бороды не хочет отпускать, а значит, и продолжает пребывать в гнусной ереси. Мечтает об автокефалии белорусской церкви, спит и видит, чтоб государь ухайдакался… Попа туда, попа сюда, попа на допрос… «Что, быдло, злонамеренные идеи в черном сердце питаешь?! Автокефалии захотел?! А в монастырь, на хлеб и воду?!» И, главное, он, холера, ни в чем не признается. Несколько месяцев таскали. Чуть в самом деле за решетку не попал. Уже и предписание было. И только потом выяснилось, что борода у попа от природы не растет.
Они широко развернули бредень и подставили его под куст, залитый водой. Алесь спиной, чтоб глаза не повредить, полез в кусты и начал бултыхать в них ногами. В следующий миг Кастусь дернул за веревочку, и крылья сомкнулись. Загорский подскочил к другу и помог ему поднять бредень над водой. В нем лежала, замерев от страха, довольно большая щука, а рядом с ней дрожали три тускло-золотых линя.
Ставя то и дело бредень, они медленно подвигались к городищу.
— И почему это, брат, так? Обычная рыба долго, мужественно, я сказал бы, держится, а щука, большая, сильная, хищная, как вытащишь из воды, так и млеет? — спросил Кастусь.
— Я думаю, что обычная рыба — она труженик. Живет себе, борется, «насущный» свой тяжело зарабатывает. А эта — хапуга, аспид хищный. Злой человек не бывает мужественным. Так и тут. На расплату, как и у всех таких, кишка тонка.
Кастусь вырвал из воды бредень, и в струях льющегося серебра они увидели еще одну неподвижную щуку и захохотали…
…Когда они уселись у подножья огромного городища и разложили сушить одежду, Кастусь, глядя расширившимися глазами на море цветов в воде, сказал:
— Ну и земля! Бог ты мой, какая земля! Так хотя б за красоту свою неужели она капельки счастья не заслужила? Тянут и тянут, душат и душат.
— Это правда, — сказал Алесь.
Калиновский лег на живот и смотрел теперь на гигантскую усеченную пирамиду городища, на следы рвов, на утоптанные временем склоны, на которых шумела трава, на одинокий дубок, что каким-то чудом примостился на краешке верхней площадки, добывая корнями бедный прокорм из твердой, как камень, земли.
— Держимся, как вон тот дубок, — сказал Кастусь, — на руинах.
— Слушай, почему ты последние две недели грустный? — спросил Алесь.
— Ты не думай, брат, — после паузы произнес Калиновский, — мне хорошо у вас, хотя и непривычно смотреть, как танцуют вокруг тебя и Логвин, и Кирдун с женой, и Карп с Анежкой, и Кондратий, и другие.
— Ну и что?
— Скажи, тебе никогда не было плохо от мысли, что на тебя трудятся многие тысячи людей? Если поселить в одно место, получился б огромный город. А вас шесть человек…
— Мне здесь пока ничего не принадлежит… А домашние — люди традиции, хотя и понимают необходимость перемен, — сдержанно сказал Алесь. — На собрании, кажется, четыре года назад, подали голоса за отмену крепостного права. За отмену!
— Ну, а ты сам как думаешь?
— Когда буду хозяином, наши люди получат свободу. Даю слово. Знаю, может, мне за это и хребетину переломят. Однако иначе нельзя.
Над головами юношей летели на городище, словно штурмуя его, солнечные, ослепительно белые облака.
…Ночью, когда Алесь и Кастусь уже лежали в своих кроватях, к ним зашел старый Вежа. Сел на краешек Кастусевой кровати, внимательно глядя на гостя.
— Ну как тебе здесь?
— Мне здесь хорошо.
— Слушай, Кастусь, могу тебе предложить кое-что.
— Да.
— Оставайся до университета у меня. Вместе с Алесем в будущем году поедете. А до того времени будешь учить детей в моей сельской школе. И подзаработаешь за год на два года, чтоб по урокам не бегать… А?
Кастусь отрицательно покачал головой:
— Нет. Я понимаю вас, пан Вежа. И я вам благодарен. Но здесь дело сложное. Мне надо потом тянуть братьев. И к тому же…
Он замялся:
— И к тому же мне надо быстрее выучиться. Я не имею права рисковать еще одним годом.
— Я знаю, ты никогда не возьмешь от меня денег.