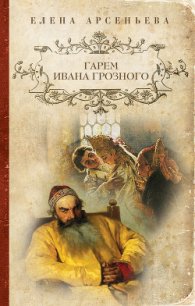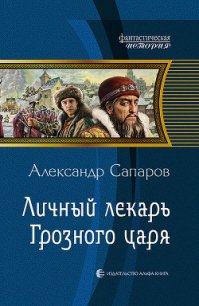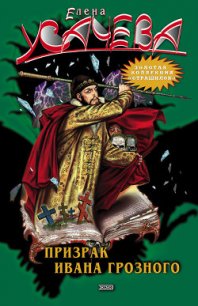Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] - Арсеньева Елена (читать книги без .txt) 📗
– Лекаря! Лекаря!
Никто не двинулся с места. Люди оцепенело смотрели на страшную картину: неподвижно лежит царевна Елена Ивановна, в углу слабо стонет в кровь избитый Годунов. Царь с безумными глазами стоит на коленях и пытается приподнять лежащего на полу сына, однако его окровавленная голова безжизненно падает, падает…
Роковое письмо исчезло.
Через несколько часов царица Елена Ивановна разрешилась мертворожденным ребенком и еще не меньше недели провела в горячке. Однако она выжила, а вот супруг ее, царевич Иван, наследник престола, скончался спустя четыре дня. Все это время государь не отходил от его постели, рыдал, вопил, проклинал себя и пламенно молился. Ничего не помогло! Закрыв глаза сыну, царь сам повалился без памяти, однако вскоре очнулся и пусть едва живой, но смог быть на отпевании и похоронах.
Бельский не отходил от него ни на шаг, и, возможно, именно ему были обязаны жизнью царица и ее родня. От немедленной расправы их уберегло только потрясение, в которое повергло царя убийство сына. Но как только к разуму государя оказалось возможно пробиться словами и достучаться доводами, Богдан Яковлевич сперва исподтишка, а потом впрямую начал твердить, что карающей деснице следует замереть. Письмо могло быть лживым, невозможно точно определить, когда и от кого был зачат ребенок, которого вынашивает царица Марья: ведь государь и сам посещал – пусть всего лишь раз или два! – свою супругу примерно в те дни, когда могло случиться зачатие.
Иван Васильевич не спорил, но и не соглашался. Наверное, ему было легче примириться с изменой жены, с преступлением сына, чем признать, что убийство совершено напрасно. Он сидел сгорбившись, низко свесив голову на грудь, прикрыв глаза, и почти не воспринимал того словесного зелья, которое верный Богдаша неустанно вливал в его уши. Как это ни странно, именно сразу после величайших потрясений своей жизни он обретал способность мыслить на диво ясно, безошибочно оценивая не только очевидное, но и прозревая глубоко затаенное.
Побуждения Богдана были ясны ему как белый день. Это ведь только в баснословных древних царствах вместе со смертью властелина умирали добровольно или бывали убиты его ближайшие слуги. Богдаша знает, что век государя измерен, однако сам мечтает жить дальше. И жить хорошо… Теперь наследником, само собой, становится Федор – больше некому. Государь печально усмехнулся: Федор на царстве – все равно что Бориска на царстве! А для Бельского правление Годунова – это потеря власти, почетная ссылка в какую-нибудь нижегородскую глухомань, на воеводство, а может быть, и явная опала.
В том же случае, если у государя рождается еще один сын, здоровый, сильный и разумный, вдобавок успевает подрасти, прежде чем умрет отец, завещание может быть изменено в его пользу. И с надеждой на это Бельский будет печься о сыне Марьи Нагой как о своем собственном! Потому что еще не рожденный царевич – для него последняя надежда удержаться при власти после кончины государя.
Сын, сын – четвертый, если вспомнить младенца Дмитрия, зверски погубленного его врагами давно, еще при жизни Анастасии… Четвертый сын – или первый внук?
Никто не знает. Никто не ответит! Царь прикинул даты. Если ребенок был зачат в конце сентября, как уверяет этот Матвей Поляков – чтоб его черти на том свете раскаленными клещами рвали, да подольше! – значит, родится он в июне или июле будущего года, 1583-го… Но беда в том, что проклятое письмо исчезло неведомо куда. Значит, кто-то может прочесть его. Кто-то может сопоставить даты. Сделать выводы. Распустить слухи, которые самым черным пятном лягут на честь русского царя, его семьи, его памяти.
Проще всего было бы убить царицу. Убить ребенка…
Нет. Хватит, наубивался. Вдобавок ко всему, хоть вероятия мало, но – чем черт не шутит, вдруг это и впрямь его собственный сын? Однако при любом случае честь Грозного царя должна быть спасена. Ни у кого не должно зародиться и тени сомнения в том, что царица Марья носит законного сына своего супруга. Богдан поможет. Когда бы ни родился ребенок, в бумагах должна стоять другая дата. Значительно более ранняя. Ну, к примеру, 19 октября 1581 года. «Это будет моим завещанием Богдану, – подумал государь. – Даже и потом, когда я умру, он должен подчистить это дело…»
Государь угрюмо вздохнул. Иван-покойник был весь в отца. Дерзок, ничего не скажешь! Ведь вполне могло статься, что царь решился бы навестить полузабытую жену именно в ту ночь, когда у нее был любовник.
Да… однажды уже случилось подобное. Давно, лет пять тому назад. Тогда в слободе в царицыных покоях жила Василиса – красавица вдова стремянного Никиты Мелентьева. Впрочем, она еще не была вдовою, когда государь случайно увидал ее среди других слобожанок и с первого взгляда воспылал страстью. Василисе было лет двадцать пять, а может, и побольше, она цвела не нежной, едва расцветшей, а зрелой бабьей красотою, сознанием своей силы. Ни до, ни после Ивану Васильевичу не приходилось видеть женщины, у которой грех столь явно прыскал из глаз. Понятно, почему Никита следил за женой таким настороженным взором, почему его лицо всегда было мрачным. Везде, где ни появлялась Василиса, взгляды всех мужчин невольно приковывались к ней, а головы поворачивались вслед, как венчики подсолнухов – за солнцем. Ну а кто был таков государь, как не изголодавшийся мужчина?
И все же образ угрюмого Никиты Мелентьева на какое-то время остановил его – правда, ненадолго. Друг Богдаша только усмехнулся на сетования государя, мол, не может сладить с растревоженной плотью, а в голове одна Василиса, покоя нет! – и куда-то спешно направился. Вечером он не появился, и отходить ко сну Иван Васильевич был вынужден без него, хотя Бельский носил чин спальника и порою, когда совсем уж донимала царя тоска, ему даже ставили в государевой опочивальне отдельное ложе, чтобы, проснувшись, Иван Васильевич мог видеть поблизости доброе, заботливое лицо Богдана.
Пробудился он среди ночи – отчего-то сделалось жарко и тесно. Некоторое время лежал в полусне, приходя в себя, и вдруг сообразил, что не один на ложе. Осторожно повернулся…
Слабо освещенная ночником, рядом лежала, свернувшись клубком, Василиса – нагая, словно русалка, с распущенными длинными волосами, – и точила слезы в подушку. Не в силах поверить, что это явь, а не морок, Иван Васильевич сначала смотрел на нее, потом осмелился дотронуться до круглого белого плеча, видневшегося сквозь паутину соломенных волос, потом…
Потом бабе не было угомону: чудилось, в ложесне ее сидит некое ненасытное, плотоядное существо!
Лишь к утру утихли страстные стоны Василисы, и она уснула. Спала день до вечера, ровно дыша и чему-то сладко улыбаясь – румяная, горячая, невозможно красивая. Убедившись, что молодка отнюдь не манья [43] ночная и никуда при дневном свете не денется, Иван Васильевич потребовал Бельского к ответу.
Богдаша заюлил глазами и рассказал какую-то безумную историю. Дескать, стремянный Никита Мелентьев вдруг тронулся рассудком и решил покататься с женкою по озеру близ слободы. Да нет, в самом этом решении не было ничего безумного, однако охота к водным прогулкам пришла к Никите почему-то среди ночи. Сослепу, в темноте, не разглядел бедолага, что днище его лодчонки какой-то лиходей умудрился просверлить. Может, из пустого озорства, может, с разбойным умыслом… Словом, не больно-то на большом расстоянии от берега лодочка пошла ко дну. Никита плавать то ли не умел, то ли судорога его скрутила – канул камнем! И такая же участь постигла бы Василису, не случись именно в эту минуту на берегу Бельского и нескольких его людей.
Бабенку спасли. Увидав ее, Богдан Яковлевич удивился такому невероятному совпадению: не далее как нынче же вечером государь изнемогал по ней, жалуясь, что муж помеха, и вот, гляньте, она, Василиса, а мужа и в помине нет!
Чтобы овдовевшая молодушка особенно не горевала по супругу, Бельский незамедлительно отнес ее во дворец и уложил с краешку государева ложа…
43
Призрак.