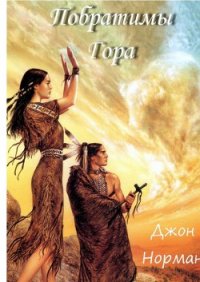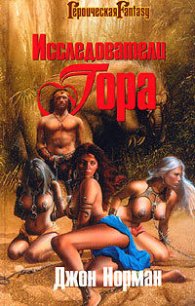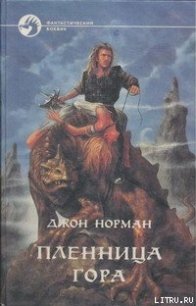Холодная гора - Фрейзер Чарльз (хорошие книги бесплатные полностью txt) 📗
Вначале он обращал внимание на то, как проводить смычком по струнам, как прижимать их пальцами, как добиваться выразительности исполнения. Затем он начал прислушиваться к словам песен, которые пели ниггеры, и восхищался тем, как они воспевают все свои желания и страхи — так ясно и гордо, как только это могло быть воспето. И вскоре у него появилось ощущение, которое с каждым днем все более усиливалось, что он узнает что-то о себе самом, то, что никогда не проникало в его мысли прежде. И вот что еще он с огромным удивлением открыл для себя — музыка стала для него большим, чем просто удовольствие. Это была пища для размышлений. Объединение звуков в мелодию, их звучание, когда они то звенят, то затухают, сообщали ему нечто утешительное о порядке мироздания. Музыка говорила ему, что есть правильный путь для такого порядка вещей, при котором жизнь не была бы такой запутанной, не шла бы самотеком, а имела какую-то форму, цель. Это был сильный довод против утверждения, что все в этой жизни происходит бессмысленно. Теперь он умел играть на скрипке девять сотен мелодий, и несколько сотен из них — его собственного сочинения.
Руби выразила сомнение, указав на то, что во всех других проявлениях жизни двух рук с пятью пальцами на каждой всегда было ему вполне достаточно для подсчета.
— У него никогда не было ничего такого, что нужно было считать дальше десяти, — сказала она.
— Девять сотен мелодий, — повторил Стоброд.
— Что ж, сыграй одну, — предложила Руби.
Стоброд подумал с минуту, затем провел большим пальцем по струне и подкрутил колок, попробовал снова и подкрутил другие колки, пока не добился экзотического звучания, ослабив струну ми примерно на три лада так, что она соответствовала третьей ноте на струне ля.
— Я никогда не задумывался, какое название дать этой мелодии, — сказал он. — Но думаю, ее можно было бы назвать «Зеленоглазая девушка».
Когда он коснулся смычком струн новой скрипки, ее тон поразил своей ясностью, резкостью и чистотой, а настройка привела к странному и диссонансно-гармоничному эффекту. Мелодия была медленной, но прихотливой по ритму и протяжной. Более того, эта мелодия постоянно вызывала у слушателя печальную мысль, что все преходяще, вот оно здесь и вдруг исчезает, что все неустойчиво в этом мире. Острая тоска была ее главной темой.
Ада и Руби изумленно смотрели на Стоброда, пока он играл. Он, по-видимому, отказался от тех коротких ударов смычка по струнам, свойственным всем уличным скрипачам, по крайней мере для этой мелодии, и выводил протяжные ноты необыкновенной нежности и пронзительности. Музыки, подобной этой. Руби никогда не слышала. И Ада, в каком-то смысле, тоже. Его игра была легкой, как дыхание человека, и все же необыкновенно убедительной в своей главной идее — утверждении ценности жизни.
Закончив, Стоброд отнял скрипку от заросшего серой щетиной подбородка. Повисло долгое молчание, в котором голоса перепелок, доносившиеся от ручья, звучали особенно печально, обещая скорое приближение зимы. Он посмотрел на Руби, как будто приготовившись к грубой оценке. Ада тоже посмотрела на нее и по выражению ее лица поняла, что мелодия скрипки Стоброда намного больше, чем его рассказ, смягчила ее сердце. Не обращая внимания на Стоброда, она повернулась к Аде и сказала:
— Может, странно, что в конце своей жизни он все же нашел единственный инструмент, на котором показал хоть какое-то умение работать. Он такой жалкий человек, что получил свое прозвище от обломка палки [31]. Его чуть не забили до полусмерти, когда поймали за воровством ветчины.
Однако для Ады казалось сродни чуду, что из всех людей именно Стоброд оказался примером того, что не имеет значения, как много плохого было сделано в жизни, все равно можно найти способ это искупить, хотя бы частично.
Брачное ложе — в крови
Инман бродил по горам несколько дней, заблудился и потерял направление из-за скверной погоды, затянувшейся надолго. Казалось, дождь шел примерно с новолуния и до наступления полной луны, но и этого нельзя было утверждать наверняка, разве только считать дни от падения первой дождевой капли, потому что за все это время не было ни единого проблеска в небе. Инман не видел солнца, луны или звезд по крайней мере неделю и не удивился бы, обнаружив, что все это время он ходил кругами или геометрическими фигурами более сложными, но все равно замкнутыми. Чтобы не сбиваться с дороги, он старался выбирать ориентиры — какое-либо дерево или скалу — прямо перед собой и идти к ним. Он продолжал так делать до тех пор, пока ему на ум не пришла мысль, что те ориентиры, которые он выбирал, могли все соединяться между собой в большой крут, и в таком случае какая разница — шагать по большому кругу или по маленькому. Итак, он шел вслепую через туман, придерживаясь какого-то курса, который казался ему на тот момент ведущим на запад, и старался получать удовольствие просто от движения вперед.
Он пользовался лекарством, которое дала ему старуха, пока оно не закончилось, и вскоре раны на голове превратились в маленькие сморщенные шрамы, а на шее образовался твердый серебристый рубец. Боль успокоилась, превратившись в отдаленный шум, как река, о существовании которой узнаешь, слыша лишь отдаленный гул ее течения. Но от тяжелых мыслей он не излечился.
Его мешок для провизии опустел. Сначала он охотился, но высокий пихтовый лес, похоже, покинула всякая живность. Затем он пытался отыскать в реке раков и потратил несколько часов на то, чтобы наполнить шляпу, но, когда сварил их и съел, не почувствовал сытости. Он ободрал молодой вяз и жевал полоски коры, потом съел шляпку ярко-красного гриба, большого, как блин. Вскоре он свалился у ручья, чтобы зачерпнуть ладонью воды и вытащить растущий на дне дикий кресс-салат.
Как-то днем он очнулся, обнаружив, что ползет по мшистому берегу ручья, как дикое животное, касаясь края воды; его лицо было мокрым, во рту ощущался резкий вкус кресс-салата, а в голове — ни единой мысли. Посмотрев в заводь, он поймал свое отражение, смотревшее на него снизу вверх, колышущееся и зловещее, и тут же сунул в воду палец, чтобы разрушить этот образ, так как у него не было никакого желания на себя смотреть.
«Господи, если бы у меня выросли крылья и я мог бы летать, — подумал он. — Я бы улетел из этого леса, мои огромные крылья понесли бы меня высоко вверх и далеко отсюда, ветер свистел бы в моих длинных перьях. Мир развернулся бы подо мной как яркая картина на свитке, и не было бы ничего, что удерживало меня на земле. Реки и горы проплывали бы подо мной. И я бы поднимался и поднимался, пока не превратился в темное пятнышко на чистом небе. Лететь куда хочешь. Жить на деревьях среди ветвей и в скалах. Отблески человеческого сознания могли бы возникать снова и снова, как посланники, желающие вернуть меня назад, в мир людей. И каждый раз безуспешно. Подлететь к какой-нибудь высокой вершине и сесть там, обозревая яркий свет обычного дня».
Он сел и прислушался к разговору ручья на круглых камнях, шуршанию дождя в упавших листьях. Мокрая ворона опустилась на ветку каштана и попыталась стряхнуть воду со своих перьев, а потом сидела, сгорбившаяся и взъерошенная. Инман встал, выпрямился и пошел, как и было предписано ему судьбой, пока не наткнулся на заросшую тропу.
На следующий день он вдруг почувствовал, что за ним кто-то идет. Обернувшись, он увидел маленького человека со свиными глазками, одетого в линялые широкие брюки и черный сюртук, который бесшумно шел вслед за ним, причем так близко, что Инман мог бы дотянуться до его шеи и задушить.
— Какого черта? Ты кто? — спросил он. Человек скрылся в лесу и присел на корточки за большим тополем. Инман обошел тополь и посмотрел. Никого.
Он продолжал идти, все время оборачиваясь. Он крутил головой, стараясь поймать тень следующего за ним человека, иногда ему это удавалось. Незнакомец снова шел за ним, но как только Инман оборачивался, он прятался в лесу. Инман подумал: «Он определяет направление, по которому я иду, а потом донесет об этом отряду внутреннего охранения». Вытащив «ламет», он помахал им.
31
Stob — диалектизм от слова stub — короткий тупой обломок.