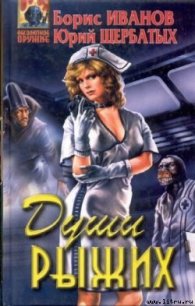Иванов катер. Не стреляйте белых лебедей. Самый последний день. Вы чье, старичье? Великолепная шесте - Васильев Борис Львович
- Погоди, Егор, Черепок вернется, мы тебе памятник отгрохаем. Полмесяца шабашить будем, глотки собственные перевяжем, а отгрохаем.
Федор Ипатович Бурьянов уехал со всем семейством. И не пишут. Дом у них отобрали; там теперь общежитие. Петуха уже нет, а Пальму Федор Ипатович все-таки пристрелил.
К Черному озеру Колька ходить не любит. Там другой лесник, а Егоровы зайцы да белки постепенно заменяются обыкновенными осиновыми столбами. Так-то проще. И понятнее.
На обратном пути я непременно задерживаюсь у Чуваловых. Юрий Петрович получил квартиру, но места все равно мало, потому что в большой комнате расчесывает волосы белая дева, вытесанная когда-то Егором одним топором из старой липы. И Нонна Юрьевна осторожно обносит вокруг нее свой большой живот.
А Черное озеро так и осталось Черным. Должно быть, теперь уж до Кольки…
Самый последний день…
1
— Значит, на пенсию решил, Семен Митрофанович? Не желаешь дождаться шинели цвета маренго?
— И в этой ничего. Привык…
Семен Митрофанович Ковалев стеснялся вести разговоры с молодыми сотрудниками. Они и смеялись не так, и курили не этак, и даже форма на них сидела куда уютнее, чем на нем, хотя он форму свою носил аккурат четверть века.
Приказ еще не был подписан, но все уже знали, что младший лейтенант Ковалев, выслужив и по годам и по здоровью полный государственный пенсион, подал рапорт и загодя отправил семью в деревню. Сделал он это по своей воле и вроде бы ни с того ни с сего, что удивило не только сослуживцев по отделению, но и тех в управлении, кто знал Семена Митрофановича. А знали его многие, и даже сам комиссар товарищ Белоконь здоровался с ним за руку и всегда называл только по имени-отчеству.
Семен Митрофанович аккуратно являлся на службу, дисциплинированно, точно ретивый первогодок, слушал инструктаж и делал что приказывали. Учитывая возраст и ранения, его давно уже освободили от оперативной работы, а поручали дела тонкие — воспитательные или конфликтные. И Семен Митрофанович не обижался, потому что всякому делу положен свой возраст, и рыпаться тут несолидно. Кроме того, он умел улаживать ссоры, доводить до добрых слез свихнувшихся девиц и был невозмутим во всех случаях жизни.
Даже осложненные взаимным недоверием профилактические беседы с молодежью младший лейтенант Ковалев проводил лучше иных дипломированных специалистов. При всей невозмутимости он никогда не скрывал своих чувств и относился к аудитории не как к поколению в целом, а как к группе, состоящей из вполне конкретных личностей. В соответствии с этим он кого-то уважал, а кого-то любил, кого-то жалел, а кого-то откровенно ненавидел, но таких, к которым он относился бы безразлично, не было, и молодое население микрорайона активно платило ему той же монетой.
— Политически товарищ Ковалев человек девственный, — сказал года два назад начальник отделения комиссару Белоконю — просто пришлось к случаю.
Начальник отделения любил выражаться книжно и иногда позволял себе щегольнуть этим. Однако в тот раз комиссар глянул так странно, что он сразу заторопился:
— Но девственность восполняется большим опытом, товарищ комиссар. Большим опытом и исключительным старанием…
Комиссар по-прежнему смотрел необыкновенно, и начальник сокрушенно примолк. Тогда Белоконь спросил благожелательно:
— На рыбалку не ездили в этом году?
И все книжные наслоения тут же вылетели из головы собеседника. И он воскликнул:
— Во какая!..
Да, в милиции знали про старую дружбу комиссара и Семена Митрофановича, хотя никто никогда не видел их вместе, и младший лейтенант безропотно тянул свою лямку, не прячась за широкую спину начальника управления. Поначалу сам вызвался в оперативную группу: вязал бандитов, преследовал воров и за пять лет к четырем фронтовым ранениям приплюсовал еще четыре. Последнее было особенно тяжелым: пуля пробила легкое. В госпиталь часто наведывался капитан Орлов — зам по оперработе. Приносил яблоки да баранки, а перед выпиской сказал:
— Отдохнуть требуется, Семен Митрофанович. Путевку мы обеспечили, а кроме путевки, положен тебе еще месяц. Так, может, тебе в Москву с Кавказа не возвращаться?! Может, прямо к своим, в деревню?
— Да нет, вернуться придется, товарищ капитан, — как всегда, тихо и чуть виновато ответил Ковалев. — Своих-то у меня нет. И пункта рождения тоже нету.
— Как так нету?
— А через него аккурат фронт семь месяцев проходил, товарищ капитан. Так что там и труб не осталось. То есть совсем ничего: просто пустырь с бурьяном, вот ведь какой факт получается.
— А родные?
— В наличии не имеется.
Капитан Орлов был упрям и, промолчав в этот раз, в день отъезда подчиненного на курорт сунул, не глядя, адрес:
— К моим поедешь. Под Новгород.
Семен Митрофанович поехал: зачем же обижать хорошего человека? Местность ему понравилась. С войны здесь все задичало, и на семь сел приходилось полтора мужика. Ковалев охотно чинил старые ходики, менял рамы, перекрывал крыши, подпирал скособоченные избы, делал все, что просили, с удовольствием выпивал стаканчик, но от второго решительно отказывался, потому что очень боялся заночевать в лично отремонтированном хозяйстве. Сделав много доброго, он так никого и не осчастливил, что гордые новгородки объясняли исключительно последствиями ранения. В следующий отпуск Ковалев опять поехал под Новгород и вдруг довел до полного онемения все местное общество, взяв за себя немолодую солдатку с тремя сопливыми сиротами в придачу.
— Ты что, Ковалев, трехнулся? — деликатно спросил лихой капитан Орлов. — Да за тебя любая двадцатилетняя — толечко пальцем помани!..
— Двадцатилетняя — она и без меня не пропадет, товарищ капитан, а тут — детишки. Младшие-то конфет в обертках сроду не видали, вот ведь какой факт получается.
В каких обертках он сам показывал конфеты усыновленным детям, неизвестно, но вздыхать не вздыхал, и настроение у него вроде не портилось. С комнатой ему помогли, жена уборщицей в интернат пошла, а там — потихонечку да полегонечку — и дети подрастать стали. Теперь их, правда, пятеро уже было.
И вот нежданно-негаданно младший лейтенант Ковалев решил оставить службу. Сдал рапорт положенным порядком и, пока двигался этот рапорт из кабинета в кабинет, продолжал служить старательно и усердно. И помалкивал. И начальство тоже помалкивало.
2
В тот день он явился на службу, как всегда, за четверть часа до положенного срока. Доложил дежурному, расписался в книге и, тоже как всегда, пристроился покурить с ребятами из ночной смены. Не просто покурить — разведать новости. И не новости вообще — этого добра он за четверть века в милиции наслушался, навидался и наглотался, — а того лишь, что его касалось. Его участка. Подшефного.
Это были четыре квартала — добрый кусок современных пятиэтажек, несколько чудом уцелевших деревяшек да два раскоряченных несуразных семиэтажных дворца, сооруженных в эпоху архитектурных излишеств. Теперь излишества эти обветшали и уже сыпались на голову, из-за чего над вторыми этажами пришлось соорудить грубую рабочую сеть.
Казалось бы, все было в порядке, но Семен Митрофанович домов этих все-таки не любил. Понимал, что поступает не по справедливости, сердился на себя — и не любил. Сердцу не прикажешь, даже если сердце это бьется под милицейским мундиром.
Поэтому и выспрашивал о них всегда особо дотошно:
— Из девятого дома звонков не было? Насчет магнитофонов там, шумов всяких?
— Нет. Из твоих, Митрофаныч, только один Кукушкин набедокурил: напился, шумел.
— Кукушкин из третьего «Б»? Слесарь-водопроводчик?
— Он самый.
Младший лейтенант достал толстую записную книжку и только успел записать про Кукушкина, как дежурный крикнул:
— Митрофаныч! Начальник просит. Давай на третьей скорости!..
Начальник отделения зимой и летом ходил в темных заграничных очках, и Ковалев не любил с ним разговаривать. Да и как можно любить разговор, когда неизвестно, в какую сторону косится твой собеседник?