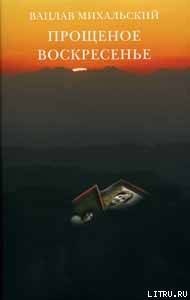Река времен. Ave Maria - Михальский Вацлав Вацлавович (читать книги полные .TXT) 📗
Почему вдруг в сентябре, накануне Ашхабада, она скоропостижно расписалась с Иваном?
Почему вдруг? Да потому, что это произошло как бы независимо от ее воли, но не против ее желания. Женская логика? Может, и женская (увы, не худшая из логик), однако противоречий тут, по существу, не было. Поездка на розыски Адама, знакомство в поселке с Ксенией и ее синеглазыми малышами вроде бы определили все навечно, а встреча с Адамом, как казалось тогда, могла только присниться. К тому же мама говорила изо дня в день, как ей хочется внуков, какой хороший Ванечка-адмирал, да и красивая Нина все твердила про Ванечку. И самой Александре был он тогда неизменно приятен и дорог, почти как родной. И все-таки лавину обрушила Нина, можно сказать, по воле случая. В сентябре старший сынок Нины, доставшийся ей от фронтового мужа генерала, пошел в школу, и там Нина познакомилась с начальницей загса, которая привела в первый класс свою дочку. Фронтовичка Нина была человеком действия: она взялась подвезти новую знакомую на своем трофейном «рено» к загсу, а по дороге они договорились, что завтра к вечеру, после работы, «распишут чудную пару». Так оно и случилось как-то само собой, без специальной подготовки, экспромтом. После загса Нина, ее муж генерал, Александра и Ванечка в белом адмиральском мундире с кортиком поехали в Елисеевский гастроном, а оттуда к Анне Карповне в «дворницкую». Никогда прежде не видела Александра свою маму такой помолодевшей, счастливой и гордой, как в тот дивный сентябрьский вечер. Когда около полуночи они все уезжали от мамы, та придержала дочь за порогом «дворницкой» и горячо шепнула ей на ухо: «Спасибо тебе».
Александру продолжало мутить, и она не могла смотреть без отвращения на зло горящий лик ущербной луны. От одного только взгляда на зеленовато-медную дольку лунного диска тошнота прямо-таки подкатывала к горлу. Хорошо, что вечером вдруг пришел новый вестовой Ванечки-адмирала. Пришел этот испуганный рыжий парнишка и расставил все точки над i.
Хорошо-то хорошо, однако ее так и подмывало столкнуть лежащую рядом Ксению с кровати. Стыдно до слез, но подмывало ужасно. Наверное, из-за этой ущербной, тошнотворной луны в окошке над головой…
Все трое уснули почти одновременно. Уснули, чтоб встретить новый день с новыми силами и новыми надеждами. А краешек ущербной луны сдвинулся по небосводу и больше не светил в окошко, не мешал им спать.
IV
Тогда, в «дворницкой», в запале и смятении чувств Александра пообещала Ксении, что отведет ее к Адаму в больницу. И теперь, сказав «А», хочешь не хочешь, а надо бы говорить «Б» – надо извещать Адама о предстоящей встрече. Легко сказать «надо», а у Александры язык не поворачивался. Наконец, почти через неделю после того, как она открылась Ксении и та стала приходить к Анне Карповне каждый божий день сразу после занятий в университете, Александре все же пришлось сказать Адаму о Ксении. Во-первых, тянуть с этим дальше было просто некуда, а во-вторых, он сам начал этот разговор.
Они стояли в теплом, чистом, пропахшем лекарствами больничном коридоре у высокого, хорошо вымытого и тщательно заклеенного на зиму окна с широким подоконником, на котором расположился глиняный горшок с неприхотливым алоэ, прозванным в народе «доктором». Косые струи дождя сбивали с большого клена под окном последние желтые листья, и те не кружились, как обычно, в плавном полете, а под потоками воды опадали на почерневшую от влаги землю как-то смиренно и безнадежно.
На посту медицинской сестры в то утро опять дежурила светлоглазая хорошенькая Катя Математика. Оказывается, это прозвище закрепилось за ней давно, и никто не упрекал ее за то, что она собирается навсегда изменить медицине и жить, как она говорила, не на «чужой», а на «своей» улице.
– Товарищ майор, – выйдя из-за отгородки поста, где у нее стоял маленький письменный стол, негромко окликнула Адама Катя, – товарищ майор, может, глянете тяжелого в пятой палате?
Адам кивнул в знак согласия, и они с Катей направились в пятую палату, а Александра прошла к посту дежурной медсестры, облокотилась о стойку и загадала: «Если в пятой палате все обойдется, если больной выживет, то это и в моей судьбе будет хороший знак».
Адам и Катя не возвращались минут сорок. Катя покатила в пятую палату капельницу, еще раз выбегала за чем-то в ординаторскую, но когда они, наконец, вернулись, то по их лицам Александра сразу поняла: все в порядке – и порадовалась за больного и за себя.
Они возвратились с Адамом к окну, и он вдруг сказал:
– Представляешь, эта Катя книжки по высшей математике читает!
– Я в курсе. Она заочница на физмате.
– Она мне говорит: «Математика – точная наука в рамках точных договоренностей». А я ей говорю: «Но тогда можно сказать, что все в этом мире в рамках договоренностей, вся жизнь». Например, ей я этого не сказал, однако подумал: мусульмане договорились, что у мужчины может быть четыре жены, и все жены живут в согласии. Конечно, есть строгий регламент шариата, свод правил: каждую жену надо обеспечить жилищем с отдельным входом, каждую кормить, поить, обувать, одевать, каждую четвертую ночь надо ночевать с женой и еще там много условий…
– Да, я слышала об этом обычае, – прервала Адама Александра.
– Ты слышала, а я ведь из Дагестана! – запальчиво сказал Адам. – Ты слышала, а я все это сто раз наблюдал в горных аулах. Правда, четыре – это редкий случай, а две – запросто!… Чего-то я заболтался, – смутился Адам, перехватив взгляд своей первой (старшей) жены и поняв, что она слышит в его словах не текст, а подтекст. – Какой дождь лупит!
Александра не поддержала обычно спасительный в таких случаях разговор о погоде. И наступила неловкая пауза.
– Слушай, – наконец продолжил разговор Адам, – а как бы моим послать весточку? Маме, отцу…
– Не знаю. Спрошу у Папикова. Ксения в Москве, я приведу ее завтра! – вдруг выпалила Александра.
Боже! Как он обрадовался! Как нестерпимо было видеть Александре его разрумянившееся лицо с косящими сильнее обычного сияющими эмалево-синими глазами.
– Она учится в МГУ на биофаке, – после долгой паузы сказала наконец Александра, – как ты хотел. – Губы ее задрожали, и на глаза навернулись слезы.
Адам обнял ее за плечи и привлек к себе. Ему было все равно, смотрит ли на них кто-нибудь. Так, обнявшись, они долго стояли у окна, за которым шумел дождь. С клена облетели почти все листья, остались только три самых стойких. Глядя на эти три последних листочка, Александра подумала: «Один – Адам, второй – я, третий – Ксения. – Она со страхом ожидала, что какой-то листок опадет, но они дружно держались, пока и сам клен не утонул в сгустившихся сумерках. – Если до завтра продержатся, то, все у нас будет хорошо», – с детской надеждой на чудо подумала Александра.
Вскоре зашаркали шлепанцами, застучали костылями ходячие – пошли на запоздавший обед в столовую, расположенную в противоположном конце длинного коридора за выкрашенной светло-кремовой масляной краской фанерной перегородкой. Там, за перегородкой, было и второе окно, точно такое же высокое, как то, у которого стояли Адам и Александра.
– Тебе обедать пора, и так они что-то задержались, – сказала Александра, – уже время полдника…
– Не хочется.
– Иди, иди. Надо. А я в конце дня еще забегу. Смотри, как стемнело, но это скорее из-за дождя.
На этом их разговор прервался. Александра чмокнула Адама в щеку и быстро-быстро пошла по коридору – мимо поста с Катей Математикой, мимо больных, которые смотрели на нее с живым интересом, и скрылась с глаз Адама в проеме двери на лестничную клетку.
Адам не стал есть перловый суп на курином бульоне, а вот любимой гречневой каши поел с удовольствием. Обоняя застоявшиеся запахи больничной столовой, он думал о маме, об отце, вспоминал свой любимый Дагестан, который за годы работы врачом обошел пешком и объездил на лошадке вдоль и поперек. Он ясно увидел зарю в горах Дагестана, ее алые и желтые перья, распластанные, словно крылья, над вершинами скалистых гор. Вспомнил тот маленький высокогорный аул, где он принимал долгие тяжелые роды у пятнадцатилетней горянки, второй жены хозяина сакли, а первая, старшая, все это время помогала Адаму. Наверное, ей было лет двадцать пять, но черты лица ее уже чуточку огрубели, хотя она и была еще красива. Особенно запомнились ее глаза – черные, большие и удивительно добрые. Взгляд их был и очень мягкий, лучистый и в то же время исполненный собственного достоинства. Именно это сочетание доброты и гордости навсегда врезалось в память Адама. Вспомнил он, и как с плоской крыши сакли салютовал из охотничьего ружья старый муж роженицы (наверное, мужу было чуть за тридцать, но тогда он показался двадцатичетырехлетнему Адаму очень старым), вспомнил белый дымок из дула ружья и острый запах пороховой гари. И маленького новорожденного в белой, похожей на крем смазке с головы до ног, как в белых одеждах безгрешия, его старчески сморщенное личико и первый крик…