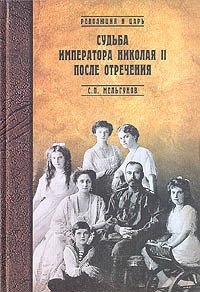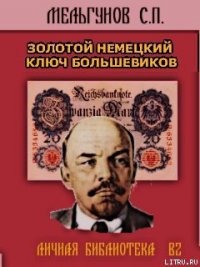Александр I. Сфинкс на троне - Мельгунов Сергей Петрович (читать бесплатно полные книги txt) 📗
Этот «сущий прельститель» действительно умел обольщать людей при первом знакомстве, и распознать его можно было только во времени. Такое разочарование должна была пережить прусская королева Луиза, искренне увлекшаяся «единственным Александром», каким он явился для нее на первых порах. 13 июня 1802 года Луиза пишет своему брату: «он распространяет вокруг себя счастье и благословение каждым своим решением. Каждый его взгляд создает кругом счастливцев, людей, осчастливленных его милостями, его небесной добротой». «В вас воплотились все совершенства, — пишет она в 1806 г. самому Александру, — нужно знать вас, чтобы верить в совершенство». Правда, здесь со стороны Луизы звучал голос искреннего личного увлечения, находившегося в созвучии с той горячей любовью к родине, которая заставляла и Штейна верить в обещания Александра. Но для Александра все эти отношения к Луизе были лишь фазой расчетливого политического-флирта. Дипломатия побудила его холодно обмануть любившую его женщину. И с горечью после Тильзита Луиза должна была замечать своей подруге: «Нет, правда, мир не лучший из миров, и люди в нем не лучшие из людей. Не нужно Лагарпов для моих сыновей». Правда, ей еще подчас кажется, что во всем виноваты окружающие люди. Но постепенно карты раскрывались, — «политический флирт» со стороны Александра должен был окончиться. Открылись и глаза Луизы. Побыв в Петербурге в 1808 г., встретив со стороны Александра холодное официальное отношение, столь разительное после прежних интимных и душевных взаимоотношений, оскорбленная в Тильзите, Луиза с горечью пишет той же своей подруге: «Человек, который любит только форму, это еще очень мало». [15] В Луизе все еще говорит благородная любящая женщина, обманутая в своих ожиданиях.
Но несколько уже другой тон звучит в 1823 г., в отзыве французского посла графа Лафероне: «Я всякий день более и более затрудняюсь понять и узнать характер императора Александра. Едва ли кто может говорить с большим, чем он, тоном искренности и правдивости… Между тем частые опыты, история его жизни, все то, чему я ежедневный свидетель, не позволяют ничему этому вполне доверяться…» «Самые существенные свойства его — тщеславие и хитрость или притворство; если бы надеть на него женское платье, он мог бы представить тонкую женщину», — говорит об Александре в своих записках Фарнгаген. «Характер Александра, — по отзыву Меттерниха, — представляет странную смесь качеств мужа и слабостей женщины». Отсутствие правдивости и прямодушия отметит нам и панегирист Александра Алисой. Притворство, по словам Михайловского-Данилевского, человека, близко сталкивавшегося с Александром, составляет «одну из главных черт характера» императора! «Я беспрестанно наблюдал Императора и во всех его поступках наблюдал мало искренности; все казалось личиной»; «Я сохраню навсегда истинное уважение к великим его дарованиям, но не испытываю одинаковых чувств к личным его свойствам». Близкий Александру человек, гр. П.А. Строганов, отмечает ту же черту: «Наружная обворожительная любезность, за которой никто не мог уловить настоящих чувств его, и какая-то кокетливая скрытность чуть ли не перед самим собой». «Нет на свете государя более подозрительного, — записывает в сентябре 1814 г. большой поклонник Александра известный идеолог реакции Жозеф де Местр, — у него удивительное чутье и осторожность, чтобы отгадывать в людях, к чему они склонны».
Отсюда удивительное уменье использовать людей, приспособляться к ним и строить свои собственные успехи на чужой доверчивости. «У Александра, — замечает А.А. Кизеветтер, — хитрость и лукавство, способность носить непроницаемую маску на своем прекрасном лице стало для него сознательным орудием самосохранения». Вернее, однако, орудием не самосохранения, а проведения своих целей. При таких условиях Александр мало кому из людей доверял. Непостоянство Александра прекрасно видели его друзья. «Поверь мне, — говорил кн. П.М. Волконский Данилевскому, — что через неделю после моей смерти обо мне забудут». Полагаться на благосклонность Александра нельзя — это общий голос всех его приближенных. Александр всегда говорил, что он не переменчив. Само по себе уже одно это постоянное упоминание кажется биографу Сперанского, бар. Корфу, подозрительным. Оно свидетельствует о противоположном. И быть может, только по отношению к Аракчееву мы видим известное постоянство, но «Аракчеев, — замечает Корф, — составлял не правило, а изъятие». [16]
Иначе и не могло быть при том болезненном самолюбии, которое отличало Александра, — отличало, как мы видим, еще в детские годы. Он был самолюбив до крайности и вместе с тем злопамятен. «Государь так памятен, — говорил Трощинский, — что ежели о ком раз один услышит худое, то уже никогда не забудет». Александр всегда жаловался, что у него нет людей, что он окружен бездарностями, глупцами и мерзавцами.
Жалуется на это Державину, Энгельгарту, Киселеву и др.: «Я не верю никому, я верю лишь в то, что все люди мерзавцы». Такой вывод мог бы явиться результатом привычки играть в жизни на слабых струнах другого.
И однако, как метко заметил Кочубей Сперанскому: «Иные заключают, что государь именно не хочет иметь людей с дарованиями!» Способности подчиненных как будто даже ему неприятны: «Тут есть что-то непостижимое и чего истолковать не можно», — добавлял Кочубей. Но в действительности у человека болезненно самолюбивого, стремящегося играть во всем первенствующую роль, черта эта совершенно естественна и понятна. Александр не переносил, когда обнаруживалась какая-нибудь его слабость, даже не слабость, а намеки на то, что он поступил под чьим-либо влиянием. Шишков из авторского самолюбия неосмотрительно сообщил великой княгине Екатерине Павловне, что он автор записки, побудившей Александра в 1812 г. оставить армию. Когда это обнаружилось, Шишков принужден был оставить должность государственного секретаря. Сперанский на себе более, чем кто-либо, испытал непостоянство Александра. Александр, конечно, не верил в его измену. По словам Лористона, «главная вина Сперанского состояла в нескромных отзывах об императоре». Поддаваясь в данном случае требованиям реакционных кругов, Александр отнюдь не хотел признаться в этой слабости и с гневом рассказывал проф. Парроту об измене Сперанского. [17] Перед Сперанским он был другим: «На моих щеках были его слезы», рассказывал Сперанский. А потом тщетно Сперанский старается оправдаться перед Александром: письма его систематически остаются без ответа.
Очевидно, Греч в значительной степени был прав, сказав про злопамятность Александра: он никогда прямо не казнил людей, а «преследовал их медленно со всеми наружными знаками благоволения и милости: о нем говорили, что он употребляет кнут на вате».
Александр неоднократно говорил, что он любит правду, любит ее сам говорить, любит ее и слушать. «Вы знаете, — писал он Екатерине Павловне, — что я не люблю создавать себе иллюзий, я люблю видеть все так, как оно есть на самом деле». «Я слишком правдив, — писал он Ростопчину по известному делу Верещагина, — чтобы говорить с вами иначе, как с полной откровенностью. Его казнь была не нужна, в особенности ее отнюдь не следовало производить подобным образом. Повесить или расстрелять было бы лучше». Это писал Александр 6 ноября 1812 г., когда невинность Верещагина была ясно доказана, когда против Ростопчина говорило все общественное мнение, возмущенное жестокой расправой. Александр мог в 1801 г. сказать Ламбу, возражавшему против какого-то распоряжения по военной части: «Ах, мой друг, пожалуйста, говори мне чаще: не так. А то ведь нас балуют». Ответ этот привел в восторг И.М. Муравьева-Апостола, сообщавшего в письме к СР. Воронцову: «Все подобного рода анекдоты нынешнего восхитительного царствования». Но в действительности Александр не терпел, чтобы ему говорили правду. Он никогда не мог простить Карамзину резкость тона в его записке, порицавшей начинания первых лет царствования, показывавшей ошибки Александра, с чем — под влиянием событий — Александр чувствовал себя вынужденным согласиться. Он не мог переварить малейшей откровенности, малейшей критики и порицания своих действий. Весьма не понравились Александру возражения старика И.В. Лопухина против милиции в 1806 г. Лопухин высказывался против побуждения со стороны правительства к денежным пожертвованиям и упоминал лишь о том, что он видел «от того ропот даже не между бедным купечеством». Болезненное самолюбие проявлялось даже в таких мелочах. Сам если не масон, то якобы сочувствующий масонству, Александр посещает ложу «Трех добродетелей». А.Н. Муравьев, согласно масонскому обычаю, давая объяснения императору, обращается к нему на «ты», как к брату. Александр был сильно шокирован подобным обращением и впоследствии не забыл этой карбонарской выходки будущего декабриста.
15
Взаимные отношения Луизы и Александра очень ярко изображены в этюде A.K. Дживелегова, напечатанном в «Голосе Минувш», 1913 г., № 1.
16
Причина непонятной привязанности Александра не так уже будет непонятна, если отрешиться от традиционного взгляда на благородный идеализм его натуры. Как было указано, интеллектуальность Александра не так уже была велика и не так уже была чужда понятия истиннорусского неученого дворянина Аракчеева. Роднили их одинаковые интересы и вкусы. Оба в жизни были к тому же большие актеры, и эта черта их также роднила. Чего стоит, напр., одна только поза Аракчеева, заведовавшего всем, пользующегося расположением Александра, хотя и временным, и униженно просящего кн. С.Г. Волконского замолвить «словечко» за него перед Винцегероде. Привязанность личная к Аракчееву объясняется в значительной степени, как показывает А. А. Кизеветтер, той ролью, которую играл Аракчеев во время юности Александра, ролью «самоотверженного дядьки, прикрывающего молодого барчука от грозного отца». Аракчеев исполнял более чем добросовестно эту роль дядьки. Как характерны, напр., такие сцены, когда Аракчеев являлся в спальню молодых супругов и, заставая их обоих в постели, тут же давал подписывать Александру рапорт о дежурствах и т.п. Лишь раз пробежала кошка между друзьями, когда в 1809 г. Аракчеев при организации Государственного Совета, т.е. при осуществлении якобы плана либеральных начинаний Александра, попросился в отставку. Он хотел испытать свою силу. И Александр очень определенно показал, что он без труда пожертвует своим другом. Он выразил в письме надежду впредь видеть лишь прежнего Аракчеева. И последний уже более не пытался прямо противоречить своему покровителю, идя путем обволакивающим, когда ему чего-либо надо было достигнуть, напр., свалить личного друга царя кн. Голицына. И Аракчеев стал единственным человеком, который мог быть почтен именем доверенного, как замечал гр. Ноаль в 1816 г. Александр работает только с Аракчеевым. Александра интересует главным образом «необыкновенное дело», им затеянное, т.е. военные поселения. Аракчеев же сумел, как никто, положить «хорошее начало», по собственному его выражению, после одной из жесточайших экзекуций в Высоцкой волости. И так как Аракчеева ненавидели действительно все другие сотрудники Александра, то последний в полном соответствии с истиной мог писать ему 22 сентября 1825 г. после убийства аракчеевской любовницы: «У тебя нет друга, который бы тебя искреннее любил».
17
Реальной «виной» Сперанского было лишь самовольное присвоение себе права читать дипломатическую перлюстрацию (см. Ник. Мих. «Александр»).