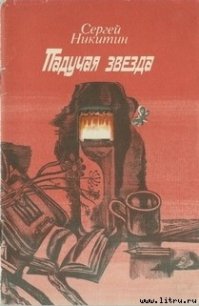Моряна - Черненко Александр Иванович (читать книги полные .txt) 📗
Кто же другой похлопочет о женской судьбинушке, как не сам попечитель приюта имени государыни Марии Федоровны Алексей Фаддеич Дойкин!
Что и говорить — есть, что вспомнить!..
Была в приюте одна розочка — сирота Софа, маленькая, пухленькая, не по летам полногрудая. Два года выжидал Алексей Фаддеич, пока вытянется Софа в стройную девушку, но она все оставалась такой же маленькой и продолжала хорошеть. А когда узнал Дойкин, что Софе исполнилось восемнадцать лет, увез он девушку к себе на промысел. Не сразу сломил ее Алексей Фаддеич, а потом за расточительные ласки Софы взял он девушку с промыслового плота к себе прислугой в дом. Но однажды о его связи с Софой узнала жена — кроткая, богомольная женщина. Не сказав мужу ни слова, она покорно ушла в монастырь. Дойкин после этого стал жить с Софой открыто, как муж с женой... Вскоре навалился памятный семнадцатый год, а потом январь восемнадцатого, когда рабочие города и ловцы забрали не только багры, но и власть в свои руки. У Дойкина отобрали трехэтажный каменный дом в городе, новый пароход, четыре буксира, десяток баркасов и богатый промысел на взморье... Сумел Алексей Фаддеич выбраться из города в рыбацкий поселок, где и схоронился у своего икорника. Потом перекочевал в другой поселок, оттуда в Красный Яр к племяннику. В это время со стороны Гурьева двинулись уральские казаки; племянник со своими друзьями ушел им навстречу. Дойкин начал собираться в город, который, казалось, вот-вот возьмут уральцы. Но Красная Армия разметала их. Пришлось Алексею Фаддеичу уехать из Красного Яра. Свыше года он жил у бывшего своего конторщика в пригородном поселке, а потом перебрался в Островок, в этот глухой, малолюдный култук, где проживал верный его промысловый приказчик Порфирий Мироныч, который занимался тогда ловом рыбы... А когда ввели нэп, Алексей Фаддеич в компании с Миронычем начал поспешно расширять рыбный промысел, немного спустя занялся он скупкой рыбы, переправляя ее в город. В двадцать пятом году его хозяйство уже настолько окрепло, что в компании с уцелевшими рыбниками открыл он в городе рыбную фирму, — правда, предусмотрительно не входя официально в число ее хозяев. Поплыли вагонами белорыбица, балыки, икра — и в Москву и в Питер... Разыскалась и Софка, только стала она теперь тощей, костлявой бабенкой.
— Разве от этой жизни не постареешь?! — Алексей Фаддеич печально глянул на лик угодника, зашептал сдавленным голосом: — Господи! Никола-чудотворец!.. Помоги людям, дай им силу... — Плотно привалившись плечом к столбу, он стал громко рассуждать не то с самим собою, не то с угодником: — Ничего, что приходится ползком пробираться в этой жизни. С кем не бывает!.. К чему тут гордость и спесь? Когда дело есть, можно и без фирмы тихо, благополучно обойтись. Не в фирме дело! Сумели же мы с Миронычем прошлой осенью незаметно переправить в Саратов два дощаника рыбы и икры. Оказывается, можно и без вывески обходиться, — кошельку все равно! Но тут вскоре снова зашумели партийные люди: об артелях, об уничтожении сухопайщины... О-ох, и беспокойный народ пошел нонче! Известное дело — власть! А что тоска вот ожигает и, как ледяная глыба, давит на сердце, то ведь и лед проходит. Пронеси, господи! Помоги, господи!.. Только бы благополучно добраться людям под Гурьев. А там... А там, может, и вновь пойдут мои пароходы, буксиры, баркасы. Вот ушли же сейчас хоть и бедные посудинки, да чьи они? Чьи?.. Может, еще поставим великий монумент именитому волжскому тысячнику Фаддею Дойкину, батяше моему... О-ох, родитель! А каков ты был: саженного роста, кудрявый, краше своего сына. Бывало возьмет за руку, подведет к карте православной Российской империи, ткнет кургузым пальцем в голубую борозду Волги и синий овал Каспия и дух переведет: «Видишь, сынок?.. Волга — это вроде как ручка, а Каспий — самый ковш. Понял?.. Крепко держись, сынок, за Волгу, за эту самую ручку. Крепко-накрепко!.. Каспий-море — золотая ямина, сынок. Черпай оттуда сколько там хватит, только не ленись! Я черпал великие тысячи, а ты должен взять этим ковшом мильены. Сам знаешь — начал я поздно и помираю вот рано. Запомни сынок: я был тысячником, а ты должен быть мильенщиком! — Тут родитель опускался на кровать и прерывающимся голосом продолжал: — Помни: никого не жалей, потому что тебя никто не пожалеет. Не зря же говорится: рыба рыбою сыта, а человек — человеком. Понял?»
Было это, когда Алексею исполнилось двадцать лет, и батька, мучительно страдавший язвой желудка, передавал ему свои богатства. До этого Фаддей безотдышно, как осатанелый, тридцать годов носился по Волге и приморью, создавая капитал.
Открыв поначалу в городе небольшой лабаз с ловецкой сбруей, он исподволь забрал в свои руки чуть ли не половину окружного ловецкого населения, снабжая его сетью, мукой, кредитами... Шла тогда про Фаддея худая слава. Говорили про него разное, как начинал он богатеть. Одни упоминали имя какого-то недавно умершего московского купца, незаконным сыном которого будто являлся Фаддей. Другие передавали, что щедро задарил он князя Кудашева, управляющего государственным имуществом Нижней Волги. Третьи шептались о том, что выкрал где-то Фаддей из алтаря церковное добро: золотые кресты, чаши... Но только не прошло и пяти годов с тех пор, как Фаддей открыл в городе небольшой лабаз, слыл он уже по всему Поволжью именитым тысячником. Жизнь его, что река, широко разлилась на многие-множества протоков. Вниз и вверх по Волге плыли его беляны, баржи, плоты, баркасы, буксиры. По всему волжскому понизовью хвалили его самарскую муку с голубым клеймом на мешках: «Мучная фирма Фаддея Дойкина», а семь крестьянских губерний центральной России ели его рыбу с черной трафаретной отметиной на тарах: «Рыбная фирма Фаддея Дойкина».
Однако и в то время он ни на минуту не переставал думать о своих капиталах, все ненасытно ворочая делами. Опамятовался Фаддей только после того, как болезнь окончательно приковала его к постели... Побывав у многих профессоров и не получив облегчения, решил Фаддей посетить перед смертью святые места.
Передав дела Алексею, поехал он в Киево-Печерскую лавру, в Саровскую пустынь, на Афон. Изредка появляясь в городе, Фаддей богато наделял вкладами местные монастыри, строил по бедным церквам иконостасы, увенчивал золотом куполы.
Алексей же, с головой окунувшись в батькины дела, развернул их еще шире, азартно приумножая унаследованные тысячи.
Но тут шквалом пронесся семнадцатый год, ударил шурганом январь восемнадцатого. А теперь вот закрутилось такое, что не поймешь, не разберешься. И эти загадочные люди, покатившие под Гурьев, — удастся ли им поднять народ?..
Алексей Фаддеич, задыхаясь от волнения, провел дрожащей рукой по глазам и оглянулся. Стоит он у столба, под навесом которого слабо мерцает лампада перед ликом Николы-чудотворца, рядом нудно тянет молитвы Полька-богомолка, одна из бывших воспитанниц приюта, что, лишившись рассудка, была отдана когда-то им, чтобы не было скандала, в Девичий монастырь.
— Замолчь! — прикрикнул он на запевшую было громко Польку. — Утихомирься!..
И, прислушиваясь, как моряна все крепче и крепче била с Каспия, он заметил над камышами противоположного берега вихристые клубы густого черного дыма, словно нависли над приморьем ураганные тучи.
Перед веснами ловцы часто поджигают камыш, как говорят они, для того, чтобы новый рос гуще и выше; тогда все приморье дни и ночи пылает кровавым заревом...
Неожиданно где-то взревел гудок.
Дойкин взглянул на проток, — к Островку из-под того берега баркас тянул рыбоприемное судно.
«Под самый корень подсекают! — И Дойкина прошиб озноб. — Значит, не зря брехали, что государственный промысел ставит у нас приемку!»
Он растерянно осмотрелся вокруг и увидел шумную толпу ловцов и рыбачек — шли они на берег и, казалось, направлялись к нему, Дойкину.
А гудок баркаса, что тянул приемку к Островку, все гудел — Громко и протяжно.
Впереди толпы шагал милиционер; по левую руку с ним был Лешка-Матрос, рядом шла Глуша, поддерживая плачущую Настю Сазаниху. А поодаль от них Максим Егорыч, размахивая руками, о чем-то сердито говорил Дмитрию Казаку. Позади шли и шумели Анна Жидкова, Зимина, брат ее, Коляка, Макар-Контрик, Костя Бушлак, Наталья Буркина, Кузьма.