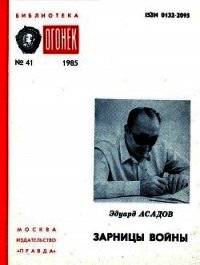Первородный грех. Книга первая - Габриэль Мариус (книги без регистрации полные версии TXT) 📗
Мерседес напряглась и замерла, понимая, что, если она ее сейчас оттолкнет, Матильда просто не переживет этого. Она неподвижно лежала, чувствуя, как монашка целует ее щеки, глаза, виски… Затем осторожно попыталась высвободиться.
– Не отталкивай меня!
– Видишь ли, ну…
– Да, да, – жалобно заскулила Матильда, – да, я толстая и некрасивая, и я тебе противна.
– Ты мне вовсе не противна, – ласково сказала Мерседес.
– Противна! У меня поросячьи глаза! И волосы острижены!
– Ты устала, – проговорила Мерседес, касаясь в темноте ее лица. – Мы слишком заболтались. Нам надо спать.
– Разреши мне поцеловать тебя на прощанье. Ну пожалуйста.
Мерседес позволила Матильде снова обнять себя и почувствовала, как к ее губам прикоснулись теплые губы монашки. Движения Матильды были нежными и трепетно легкими.
– О, дорогая…
Их губы слились в крепком поцелуе. Мерседес ощутила, как по телу разливается истома, сладкая и тревожная. Матильда уже не казалась толстой и неуклюжей. Ее влажный рот стал подобен цветку с дрожащими лепестками. Ее руки были уверенные и ласковые. Мерседес вдруг стало тепло и уютно, и, не в силах далее сопротивляться, она целиком отдалась во власть Матильды.
Почувствовав, как тревожно затрепетало ее сердце, Мерседес отвернула лицо в сторону.
– Просто расслабься и лежи, – прошептала Матильда. – Засыпай.
И Мерседес поплыла, словно в теплых волнах океана. А затем ее поглотила бездна.
На следующее утро Матильда проснулась задолго до Мерседес и, приподнявшись на локте, принялась разглядывать лежащую рядом девушку. Во сне лицо Мерседес утратило свои властные черты. Сейчас оно было безмятежным, как лицо ребенка. Ее рот, веки, ноздри – все выглядело настолько совершенным, что обожающей ее Матильде она казалась ангелом во плоти.
– Ты так прекрасна, – шептала монашка, нежно целуя губы Мерседес. – Так прекрасна. Бесценная ты моя.
Лицо Мерседес начало принимать строгое выражение – она просыпалась. Ее веки раскрылись. Их глаза встретились. С минуту они молча смотрели друг на друга.
– Я люблю тебя, – тихо сказала Матильда. Мерседес как-то неловко, неожиданно смущенно улыбнулась и, протянув руку, коснулась щеки Матильды.
– Правда?
– Да.
– Мне еще никто не говорил этих слов. Ты первая. Я буду помнить об этом. Всегда.
В течение двух последующих недель над Сан-Люком безраздельно господствовало лето.
Франческ Эдуард был вызван в Жерону в штаб милиции, где его стали уговаривать войти в группу управления моторизованной дивизии, чтобы руководить получением техники и вооружения, которое, как они надеялись, вот-вот должно прибыть из Москвы. Ему даже предложили звание майора. Прикинув, что из-за своей немощности он вряд ли сможет принять участие в боевых действиях, а здесь он будет иметь возможность внести значительный вклад в общее дело, Франческ согласился.
Двумя днями позже он попрощался с семьей и уехал в казармы Жерона. С этого дня родные будут видеться с ним только по выходным. Кончита даже и не пыталась отговаривать его. Но после отъезда мужа она сделалась угрюмой и молчаливой.
Матильда соорудила в их спальне маленький алтарь. Она повесила на стену деревянный крест, а под ним поставила небольшой столик, на который положила Библию и свои четки. Здесь она собиралась молиться, как привыкла это делать в монастыре.
Порой Мерседес посмеивалась над набожностью своей подруги, но в основном она относилась к этому с терпимостью и лишь с иронией поглядывала, как истово молится Матильда.
Между тем война разгоралась не на шутку. На юге армия Франко оставила Севилью и медленно, но уверенно стала продвигаться к Мадриду. Сначала пала Мерида, затем Бадахос. И начался долгий марш через крестьянские поля и деревушки вдоль реки Тахо к столице.
Битвы, сравнимые лишь с теми, что будут происходить в Европе только после 1939 года, и одерживаемые франкистами победы сопровождались слухами о чинимых ими кровавых злодеяниях. Ударные бригады мятежников, двадцать тысяч марокканцев и иностранные легионеры несли с собой смерть и разрушения. За каждым сражением следовала зверская расправа над ранеными и пленными. Каждая деревня становилась ареной грабежей и репрессий. Убит местный помещик? Расстрелян священник? Возмездие следовало незамедлительно. Офицеры разрывали рубахи на правом плече у всех без исключения мужчин и, если обнаруживали след от ремня винтовки, расстреливали на месте, и не важно, кто был перед ними – старик или совсем еще мальчишка. Женщины Сан-Люка прочитали в республиканских газетах, что фашисты сжигают тела убитых, облив их бензином, но еще чаще они просто оставляют трупы на обочинах дорог гнить под палящим летним солнцем.
Убийства множились, как мухи. Массовые казни мужчин, способных держать оружие, дополнялись индивидуальными расстрелами подозреваемых в сочувствии республиканцам. Учителя, врачи, художники, члены местного управления – все уничтожались во время этих «чисток». Не помогали им ни седины, ни высокое положение в обществе, ни явная невинность.
Мерседес, вынужденная отложить осуществление своих планов, не находила себе места. Она из кожи вон лезла, чтобы помочь анархистам: водила их автомобили, в любое время готова была бежать с каким-нибудь поручением.
Она понимала, что их отношения с Матильдой переросли в нечто большее, нежели обыкновенная дружба. И все же ничего не предпринимала ни чтобы их прекратить, ни чтобы сделать их еще более тесными. По ночам они, обнявшись в тесной кровати, прижимались друг к другу. Иногда Мерседес позволяла Матильде целовать и гладить себя, пробуждая сладкие, томные чувства. Иногда же она и сама отвечала на эти ласки. А бывало, они до самого рассвета о чем-нибудь шептались.
Страстное желание Мерседес участвовать в настоящих боевых операциях жгло ее изнутри, подобно раскаленным углям. И, глядя на все это, Матильда, ставшая для нее кем-то между подругой и любовницей, молила Бога, чтобы охватившее Мерседес безумие – а она была абсолютно уверена, что это было безумие, – наконец прошло.
Она делала все возможное, чтобы хоть как-то успокоить Мерседес. Но и самой Матильде было не сладко, ибо она оказалась запертой в доме не только из-за своей привязанности к Мерседес, но и в результате того, что ее Сиджес, этот прекрасный приморский городок, превратился в оплот анархизма. По сути дела он стал местом истребления тысяч мужчин и женщин, пригнанных туда после барселонских «чисток».
Жившие там ее родные, чтобы обезопасить себя, объявили, что она погибла во время пожара в монастыре, и, когда Матильда прислала им письмо, они сочли за лучшее не отвечать на него. Должно быть, им было спокойнее думать, что она действительно мертва.
Хотя Мерседес и отказывалась в это верить, Кончита продолжала твердить, что жизни монашки угрожает опасность. Матильда прямо-таки рвалась из дома, но Кончита даже и слушать об этом не хотела. Волосы отрастали невыносимо медленно и все еще оставались слишком короткими. Так что и днем, и ночью она вынуждена была сидеть дома.
Временами у нее даже случались приступы клаустрофобии.
– Порой мне так страшно, – пожаловалась она Мерседес однажды ночью. – Я готова буквально кричать от ужаса.
– Но ты здесь в полной безопасности. Матильда посмотрела на Мерседес глазами, полными отчаяния.
– Я не могу вернуться в Сиджес. Мне вообще некуда идти! Что же со мной будет? Чем все это кончится?
– Мы позаботимся о тебе, – проговорила Мерседес, касаясь ее руки. – Найдем тебе где-нибудь безопасное место.
Она почувствовала, как дрожит прижавшаяся к ней несчастная монашка.
– Какое место?
– Ну… где не стреляют. Не плачь, дорогая.
– Но сейчас везде стреляют, – захныкала Матильда. – Везде кровь и насилие. О, Мерче, я так боюсь!
– Ты можешь поехать со мной.
– Куда?
– На войну. Разумеется, в этом случае ты, в некотором роде, будешь на стороне своих врагов, но ты могла бы стать санитаркой. Правда, это не безопасно, когда вокруг головы свистят пули… Но зато мы были бы вместе.