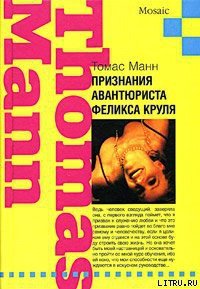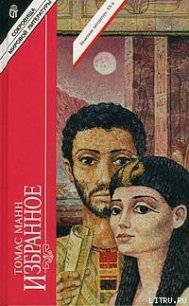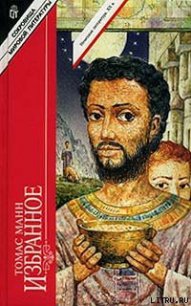ДОКТОР ФАУСТУС - Манн Томас (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные txt) 📗
Он. Ничего! У нас есть инструменты почище, и ты их еще услышишь. Мы еще сыграем тебе, когда ты созреешь для такой музыки. Все дело в зрелости и во времени. Об этом-то я и хочу с тобой побеседовать. Но «Самиэль» — идиотская форма. Поверь мне, я за народность, но «Самиэль» — ужасное идиотство, это Иоганн Бальгорн из Любека исправил. Надо «Саммаил». А что значит «Саммаил»?
Я (упрямо молчу).
Он. Если что знаешь — молчи. Мне даже по душе скромность и то, что ты предоставляешь мне роль переводчика. «Ангел яда!» — вот что это значит по-немецки.
Я (сквозь зубы, не попадающие один на другой). Ну, еще бы, у вас и впрямь такой вид! Ангел — ни дать ни взять! Знаете, какой у вас вид? Вульгарный — не то слово. Вы похожи на наглого босяка, на проститутку в штанах, на бандита. Вот в каком виде вам вздумалось меня посетить, а уж никак не в ангельском!
Он (оглядывает себя, растопырив руки). На кого, на кого? На кого я похож? Нет, это даже хорошо, что ты меня спрашиваешь, знаю ли я, на кого я похож, ибо, честное слово, я этого не знаю! Во всяком случае, не знал, только сейчас от тебя услышал. Можешь не сомневаться, я не обращаю никакого внимания на свою внешность, предоставляю ее, так сказать, себе самой. Мой вид — это чистая случайность, вернее, он зависит от обстоятельств, а я о нем не задумываюсь. Приспособляемость, мимикрия — тебе же такие вещи знакомы. Маскарадное фиглярство матери-природы, у которой всегда высунут на сторону кончик языка. Но ведь этой самой приспособляемости — а я смыслю в ней ровно столько, сколько какая-нибудь похожая на листик бабочка, — ты, милый мой, конечно, не отнесешь к себе и не станешь меня за нее осуждать! Признай, что она имеет свой смысл в другой области, в той области, где ты, хоть тебя и предостерегали, кое-что подцепил, в области твоей красивой песенки с буквенным символом; нет, в самом деле, ловко сделано, прямо-таки вдохновенно!
Когда ты напоила
Меня в полночный час,
Ты жизнь мне отравила…
Великолепно.
Приникла к свежей ране
Холодная змея…
Правда, талантливо. Вот это мы вовремя и приметили, потому-то сразу и взяли тебя под надзор: мы поняли, что игра стоит свеч, что данные тут благоприятнейшие, что если тут подпустить чуточку нашего огонька, чуточку подогреть, окрылить, подхлестнуть, глянь — и получится этакая блестящая штука. Кажется, Бисмарк говорил, что, дескать, немцу нужно полбутылки шампанского, чтобы подняться на свою натуральную высоту? По-моему, он что-то в этом духе высказывал. Золотые слова. Немец — человек способный, но скованный; достаточно способный, чтобы разозлиться на свою скованность, охмелеть и заявить «сам черт мне не брат». Ты, милый мой, видно, знал, чего тебе не хватает, и сыграл по всем правилам, когда отправился в некую поездку и, salva venia 1, подцепил французскую болезнь.
1 Не в обиду будь сказано (лат.).
— Замолчи!
— Замолчи? Ишь ты, это прогресс. Ты понемногу осваиваешься. Наконец-то побоку вежливую множественность, наконец-то на «ты», как положено людям, которые в сговоре — и ныне и присно.
— Замолчите!
— Замолчать? Да ведь мы и так уже молчим лет пять, надо же когда-то поговорить и столковаться — и вообще, и насчет любопытных твоих обстоятельств. Об этом, конечно, лучше молчать, но нам-то с тобой долго молчать все равно не придется: ведь часы поставлены, и красный песочек начал сочиться в тоненькое горлышко, — о, пока еще именно начал! В нижнем сосуде его пока еще капелька по сравнению с верхним — мы даем время, огромное, необозримое время, о скончании которого не стоит и думать, долго еще не стоит, какое там о скончании, даже о сроке, когда можно было бы начать думать о конце, когда можно было бы сказать: «Respice finem» 1, — нечего печься заранее, ибо срок этот зыбок, зависит от случая, от темперамента, и никто не знает, когда он настанет и долго ли протянется время. До чего же хитро и ловко устроено: неопределенность и произвольность момента, когда пора задуматься о конце, шутя одевают туманом предрешенный конец.
1 «Помни о конце» (лат.).
— Чушь!
— Э, на тебя не потрафишь. Даже на мои психологические рассуждения ты отвечаешь грубостями, а ведь сам же однажды на родной Сионской горе назвал психологию приятной нейтральной серединой, а психологов — правдолюбивейшими людьми. Я отнюдь не горожу чушь, когда говорю о дарованном времени и предрешенном конце, а беру, можно сказать, быка за рога. Везде, где поставлены часы и даровано время, — невыдуманное, ограниченное время с предрешенным концом, — мы тут как тут, мы процветаем. Мы продаем время, — скажем, двадцать четыре года, — ну как, подойдет? Живи себе по-скотски, море по колено, этаким великим чернокнижником, и удивляй мир разнообразнейшей чертовщиной; забывай понемногу о всякой там. скованности и сигай во хмелю выше головы, не изменяя при этом себе — зачем же? — нет, оставаясь самим собой, но только достигнув своей натуральной высоты с помощью упомянутой полбутылки. В пьяном самоупоении доступны блаженства такого почти невыносимого букета, что ты, пожалуй, вправе вообразить, будто подобного букетика не было на земле уже тысячи лет, и, чего доброго, возомнить себя богом в озорную минуту. Как же тут придет в голову печалиться о моменте, когда пора будет задуматься о конце! Но только конец — наш, под конец ты наш, об этом нужно договориться, и договориться не молча, хотя тут возможна и молчаливая сделка, а побеседовать начистоту.
Я. Значит, вы хотите продать мне время?
Он. Время? Просто-напросто время? Нет, дорогой, этим черт не торгует. За это нам не платили бы властью над концом. Какого сорта время — вот в чем вопрос! Великое время, сумасшедшее время, совершенно чертовское время со взлетами и сверхвзлетами, — конечно, и не без жалких падений, даже весьма жалких, это я не только признаю, но и с гордостью подчеркиваю, ибо так уж полагается, такова уж повадка и природа артистов. Последняя, как известно, всегда стремится к обоим полюсам, и некоторая склонность к экзальтации — вполне нормальное ее свойство. Тут маятник всегда скачет между весельем и меланхолией, это дело обычное, это еще, так сказать, мещански-нюрнбергская умеренность по сравнению с нашим товаром. Ибо наш товар — крайнее в этом плане, товар наш — порывы и озарения, такое ощущение свободы, вольности, отрешенности, уверенности, легкости, могущества, торжества, что наш подопечный перестает доверять своим чувствам; прибавь сюда еще то огромное восхищение сделанным, при котором легко отказаться от внешних, чужих восторгов, — ужас самопреклонения, да, да, сладостного трепета перед самим собой, когда сам себе кажешься богоизбранным инструментом, божественным чудищем. И такие же глубокие, такие же почетно глубокие спады от поры до поры, не только пустота, не только бесплодная печаль, но и тошнотворная боль, впрочем знакомая, от века данная, лишь почетно усугубленная вдохновением и сознательным опьянением. Это боль, которую с радостью и гордостью приемлешь как плату за чрезмерное блаженство, боль, которая знакома по сказкам, режущая боль в прекрасных человеческих ножках русалочки, полученных ею вместо хвоста. Знаешь русалочку Андерсена? Вот для тебя лакомый кусочек! Скажи только слово, и я положу ее к тебе в постель.
Я. Молчал бы, пошляк!
Он. Ну, ну, ну, довольно грубостей. Тебе бы только молчать. Я же не из семейства Швейгештилей. Кстати, при всей своей отзывчивой сдержанности, мамаша Эльза порядочно-таки наболтала о своих случайных постояльцах. Однако я прибыл к тебе на языческую чужбину вовсе не затем, чтоб молчать, а чтобы твердо, с глазу на глаз, договориться об условиях и скрепить сделку. Повторяю тебе, что мы вот уже пятый год молчим, а между тем все идет самым тонким, самым изысканным, самым многообещающим ходом, и дело наполовину в шляпе. Сказать тебе, как оно обстоит?
Я. Пожалуй, да, я должен знать.
Он. К тому же хочешь знать и, наверно, доволен, что можешь узнать. Думаю даже, что тебя так и подмывает узнать. Небось хныкал бы и рвал на себе волосы, если бы я держал язык за зубами. И прав был бы. У нас ведь с тобой такой уютный тайный мирок, мы обжились в нем, как дома, — настоящий Кайзерсашерн, хороший старонемецкий воздух года этак тысяча пятисотого, незадолго до прихода доктора Мартинуса, который был со мной запанибрата и запустил в меня булочкой, нет, чернильницей, и задолго, стало быть, до тридцатилетней потехи. Вспомни только, какая веселая толчея стояла тогда у вас в Средней Германии, да и на Рейне, да и везде, сколько было душевной бодрости и полноты, сколько потрясений, напастей, тревог — повальное паломничество к священной крови в Никласгаузен, в долине Таубера, поход детей и кровоточащие просфоры, голод, «Союз башмака», война и чума в Кельне, метеоры, кометы, великие знаменья, стигматы на монахинях, кресты, появляющиеся на платье людей, чудесный крест на девичьей рубашке, которая становится знаменем для похода на турок! Хорошее время, чертовски немецкое время! Неужто у тебя не согревается душа при мысли о нем? Тогда под знаком Скорпиона сошлись надлежащие планеты, что и запечатлено ученым рисунком мейстера Дюрера в медицинской листовке, тогда в немецкую землю пришли из Вест-Индии милые гости, крошечные живые винтики, нежный народец фанатиков-биченосцев, — что, насторожился? Как будто я говорю о странствующем цехе кающихся, о флагеллантах, которые лупили себя по спине за свои и чужие грехи. Нет, речь идет о флагеллатах, о невидимых пигмеях, снабженных, как и наша бледная Венера, бичами, о spirochaeta pallida — вот ее точное наименование. Однако ты прав, это отдает глубоким средневековьем и напоминает flagellum haereticorum fascinariorum. О, да, fascinarii — ими подчас становятся наши энтузиасты, но это лучший случай, вроде твоего. Вообще-то они довольно благонравны, ибо давно приручены, и в старых странах, где обжились уже сотни лет назад, не позволяют себе прежних грубых фарсов, вроде бубонных опухолей и провалившихся носов. По виду художника Баптиста Шпенглера тоже не скажешь, что ему следовало бы, спрятав бренное тело под власяницей, размахивать на каждом шагу предостерегающей погремушкой.