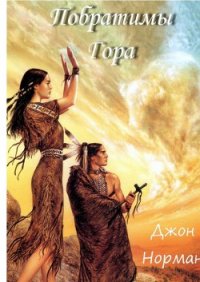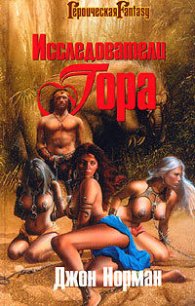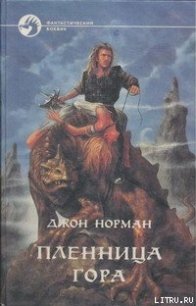Холодная гора - Фрейзер Чарльз (хорошие книги бесплатные полностью txt) 📗
Стол был завален бумагами, на нем в беспорядке лежали книги, большей частью раскрытые и повернутые вниз страницами; они громоздились одна на другой, края страниц были в пятнах от сырости. На стенах вразнобой висели рисунки, сделанные пером и изображавшие растения и животных; некоторые из них были раскрашены тонким слоем краски непонятного оттенка, каждый с многочисленными надписями по краям, как будто требовалось привести подробные пояснения, чтобы дополнить скудное изображение. Пучки сухих трав и корней свешивались на веревках с потолка, и коричневые шкурки различных маленьких зверьков лежали кучками среди книг и на полу. Крылья козодоя, черные перья которого были расправлены словно в полете, лежали на самом верху книжной стопки. Тонкая струйка дыма от тлеющих еловых поленьев пробивалась через щели в дверце печки и висела слоем под крышей из планок, поддерживаемой выгнутыми ребрами балок.
Инман наблюдал, как женщина готовит. Она жарила лепешки из теста, взбитого из кукурузной муки, в небольшой кастрюле с длинной ручкой над единственным отверстием печки. Выливая тесто на растопленное сало, она жарила одну лепешку за другой. Когда на тарелке выросла высокая стопка, она завернула кусок жареной козлятины в лепешку и вручила Инману. Лепешка блестела от жира, и мясо было красновато-коричневое от огня и втертых в него специй.
— Спасибо, — сказал Инман.
Он ел так быстро, что старуха просто отдала ему обе тарелки — с мясом и лепешками, предоставив самому заворачивать очередной кусок мяса в очередную лепешку. Пока он ел, она заменила кастрюлю с ручкой на горшок и принялась делать сыр из кислого козьего молока. Она размешала загустевшее на огне молоко и затем, когда оно свернулось, процедила его через решето из переплетенной ивовой лозы, давая сыворотке стечь в оловянный горшок. Оставшееся в решете свернувшееся молоко она переложила в маленькую плоскую дубовую форму. Пока она готовила, Инман то и дело отодвигал ноги у нее с дороги. Они мало разговаривали, так как она была занята, а Инман сосредоточенно ел. Закончив, она вручила ему глиняную чашку теплой мутной сыворотки.
— Когда ты встал сегодня утром, думал ли ты, что еще до захода солнца увидишь, как делают сыр? — спросила она.
Инман задумался. Он уже давно решил, что в размышлениях о том, что принесет день грядущий, мало пользы. Это вводит человека в заблуждение, и он представляет свое будущее либо внушающим страх, либо внушающим надежду. Инман по опыту знал, что ни то ни другое не приносит облегчения. Но он должен был признать, что сыр не присутствовал в его сегодняшних предрассветных мыслях.
Женщина села в кресло у огня и сняла башмаки. Открыв дверцу печки, она разожгла пучком соломы трубку из корня эрики. Ее голые ступни и голени, вытянутые к огню, были желтые и чешуйчатые, как куриные лапы. Она сняла шляпу и прочесала пальцами волосы, которые были настолько редки, что через них просвечивала розовая кожа черепа.
— Ты убивал людей в Питерсберге? — спросила она.
— Ну, это с какой стороны посмотреть. Скорее, те люди делали все, чтобы меня убить.
— Ты что, сбежал?
Инман отодвинул воротник и показал воспаленную рану на шее.
— Ранен и отпущен в отпуск, — сказал он.
— А какие-нибудь бумаги об этом есть?
— Потерял.
— О, держу пари, что потерял, — сказала старуха. Она затянулась и поставила ступни на пятки так, чтобы ее грязные подошвы получше прогрелись у огня. Инман съел последнюю лепешку и запил ее глотком козьей сыворотки. Вкус у нее был примерно таким, как он и представлял.
— У меня нет сыра, кроме того, что я сейчас делаю. А то бы я тебе предложила.
— Вы все время здесь живете?
— Другого жилища у меня нет. Но я могу в любой момент уехать. Я предпочитаю не оставаться в таком месте, которое мне чем-то не подходит.
Инман оглядел фургон, отметил его тесноту, посмотрел на твердый узкий тюфяк. Он подумал о вьюнках, заплетших колеса, и спросил:
— А здесь сколько времени вы живете? Старуха подняла руки и посмотрела на свои пальцы. Инман подумал, что она собирается подсчитать годы, загибая пальцы, но вместо этого она перевернула руки ладонями вниз. Кожа на них была морщинистой, вся в линиях, частых и глубоких, как резкие штрихи на гравировальной пластине. Женщина подошла к узкому шкафу и открыла дверцу висевшую на кожаных петлях. Пошарив на полке среди дневников в кожаных переплетах, она нашла один и принялась листать его.
— Должно быть, двадцать пять лет, если сейчас шестьдесят третий год, — наконец сказала она.
— Сейчас шестьдесят четвертый, — заметил Инман.
— Тогда двадцать шесть.
— Вы живете здесь двадцать шесть лет? Женщина еще раз сверилась с дневником и сказала:
— Двадцать семь будет в следующем апреле.
— Господи Боже, — произнес Инман, снова взглянув на узкий тюфяк.
Старуха положила дневник на кучу книг на столе.
— Я могу уехать в любое время, — сказала она. — Запрячь коз, вытащить колеса из земли и пуститься в путь. Обычно козы возят меня всюду куда мне заблагорассудится. Я путешествовала по всей стране. Далеко на север, до Ричмонда, потом все время на юг, до Чарльстона, и повсюду между ними.
— Вы не замужем, я полагаю?
Женщина собрала губы гузкой и сморщила нос, будто понюхала прокисшую простоквашу.
— Нет, я была, — сказала она. — Возможно, и сейчас еще замужем, хотя, думаю, он давно уже умер. Я была молоденькой невежественной девушкой, а он был стариком. Три жены у него уже умерли, но он был богатый фермер, и мои родичи поспешили продать меня ему. Мне нравился один парень. У него были соломенные волосы. Я видела его улыбку в своих снах целый год после этого. Один раз он провожал меня после танцев домой и целовал на каждом повороте дороги. Но они отдали меня за этого старика. Он обращался со мной не лучше, чем с батрачкой. Он похоронил трех жен на склоне холма под платаном, поднимался иногда туда и сидел возле могил. Ты видел таких стариков — шестидесяти пяти, семидесяти лет, — в течение жизни у них бывало по пять жен. Их убивала работа, дети и убожество жизни. Однажды ночью я проснулась рядом с ним и поняла, чем я стану: четвертым могильным камнем в ряду из пяти. Я сразу встала и выехала еще до рассвета на его лучшей лошади, которую через неделю обменяла на этот фургон и восемь коз. Нечего и говорить, эти козы сильно отличаются от той первой кучки. И эта повозка похожа, так сказать, на столетний топор, который сменил два обуха и четыре топорища.
— И с тех пор вы живете одна?
— Все время. Я вскоре поняла, что можно жить за счет коз, их молока и сыра. И за счет их мяса несколько раз в год, когда они начинают плодиться больше, чем мне нужно. Я вытаскиваю из земли любую зелень, пригодную для еды. Ловлю птиц. В мире пища произрастает сама по себе, нужно только знать, где смотреть. И примерно в полудне ходьбы к северу есть городок. Я хожу туда и обмениваю сыр на картофель, муку, топленое сало и прочее. Варю лекарственные травы и продаю лекарства, настойки, мази.
— Значит, вы знахарка, — сказал Инман.
— Точно, и на этом я зарабатываю немного медяков, а еще я продаю брошюры.
— Брошюры о чем?
— О грехе и спасении, — сказала она. — Они расходятся очень хорошо. Еще брошюры о правильном питании. Скажем, человек должен отказаться от мяса и есть в основном хлеб из пшеничной муки грубого помола и овощи. И другие брошюры — о шишках на голове и о том, как по ним узнать, что это за человек.
Она протянула руку к голове Инмана, но он отстранился и сказал:
— Я бы купил одну о питании. Когда захочу есть и у меня не окажется ничего из еды, я просто буду ее читать. — Он вытащил из кармана пачку бумажных денег.
— Я не беру ничего, кроме звонкой монеты. Три цента.
Инман пошарил по карманам, пока не нашел несколько мелких монет.
Женщина шагнула к шкафу, взяла оттуда брошюру и вручила ему.
— На обложке написано, что она изменит твою жизнь, если ты будешь следовать ей, — сказала она. — Но я не берусь ничего утверждать.