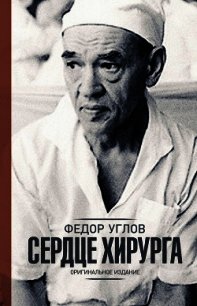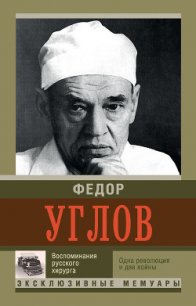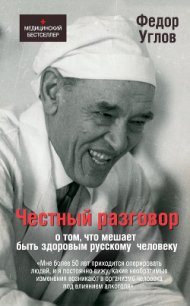Большая книга хирурга - Углов Федор (читать книги онлайн TXT) 📗
…Но требовал внимания раненый, и мы, оправившись от потрясения, освободившись от осколков стекла и мусора, продолжали операцию.
Он, Лебедев, задал нам хлопот! В послеоперационный период долго выводили его из шока, а позднее зорко наблюдали за трубками, которые были вставлены у него для предупреждения затеков. Частые перевязки, многочисленные хирургические манипуляции, неослабное внимание к нему, пока через длительное время не наступило улучшение… Выздоровлению способствовали и природный могучий организм, и упорство самого Лебедева, его стремление во что бы то ни стало одолеть недуг. И как только он поднялся на ноги, мы увидели, что это за деятельный человек! Он органически не мог переносить безделья: красил и ремонтировал госпитальную мебель, делал дополнительную электропроводку, приходил помогать в операционной и перевязочной. В палатах по его инициативе были избраны старшие, которым вменялось в обязанность следить за порядком, чистотой, организацией помощи самым слабым.
Я думал, что Лебедев из фабрично-заводских мастеровых людей, но, как выяснилось, он учитель, считающий свою профессию самой главной и важной в жизни.
А рифмованные строки, что посвятил мне Василий Иванович Лебедев в стенгазете, тронули меня, конечно, своей сердечной искренностью, как трогает любое внимание, когда кто-то со стороны видит и одобряет твою работу. Такое внимание как награда. И, простится мне, что я не собственного восхваления ради, а как память о незабываемом прошлом приведу отрывок из стихотворного сочинения защитника Ленинграда Лебедева. Назывались стихи «Кто он?» и адресовались Ф. Г. Углову:
И так далее, строф двенадцать, в которых была «зарифмована» не только моя хирургическая работа в военных условиях, но – мимо чего никак не мог пройти учитель! – и педагогическая. Да-да, мы в самые тяжелые месяцы не забывали, что наш госпиталь открыт при Институте усовершенствования врачей: считали своим долгом вести занятия по специализации и усовершенствованию медицинских работников по хирургии, и главным образом по военно-полевой хирургии. Ведь фронт так нуждался в хирургах, умеющих в условиях медсанбата оказать экстренную помощь, поставить точный диагноз, установить показания для операции. В эту пору в клинике не было Николая Николаевича Петрова, он находился на Большой земле, в эвакуации. Его замещал И. Д. Аникин, который изредка читал лекции, а в практические дела не вмешивался, и по сути вся врачебная и педагогическая деятельность лежала на плечах доцентов и ассистентов, оставшихся по одному-два на отделение.
И мы, несмотря на нашу занятость в госпитале, наперекор блокадным лишениям продолжали заниматься научной работой. В первые месяцы, когда еще не было жестокого голода, и после окончания голодной зимы проводили серьезные клинические наблюдения и даже эксперименты. Я за годы войны опубликовал девять научных работ, главным образом о фронтовых ранениях в грудную клетку. Стремился разобраться сам и одновременно помочь другим врачам решить вопросы, которые ставила перед медициной война с ее жестокими средствами массового поражения.
Среди различных групп пострадавших на поле боя много хлопот и неожиданностей доставляли нам те, у которых были проникающие ранения грудной клетки, особенно после открытого пневмоторакса. Еще в финскую кампанию у некоторых раненных в грудь, задержанных в медсанбате на долгое время, мы наблюдали случаи расхождения швов и повторный открытый пневмоторакс. В блокаду же, когда скудное питание и авитаминоз мешали нормальному заживлению тканей, это стало обычным явлением. И такие раненые, по существу, становились мучениками. А вместе с ними мучениками были и врачи, не знавшие, как эффективно помочь подопечным, что же делать, когда у них раны расползаются… Долгие напряженные дни проходили, пока мы, повторно переливая таким раненым кровь, постоянно откачивая гной, налаживая дренажи, вновь и вновь ушивая рану, не выводили их из тяжелого состояния. Это при благоприятном исходе…
В эти же месяцы, выкраивая свободные минуты, я возвращался к страницам своей монографии, той самой – об опыте хирургической работы в условиях дивизионного пункта медицинской помощи. Под рукой были почти все данные отдаленных результатов, и я с увлечением изучал, систематизировал и описывал их. Такая сверхнагрузка – госпиталь, преподавание, научные занятия – помогала мне быть собраннее и тверже в блокадных опасностях. Во всяком случае, в часы невольного упадка или усталости (все мы люди!) я спасался ею, работой…
Еще до отъезда на Большую землю монографию успел прочитать Николай Николаевич, похвально отозвался о ней и написал письмо Петру Андреевичу Куприянову, ведающему делами медицинского издательства, с просьбой напечатать ее. Он указывал в этом письме-рекомендации, что хотя уже первые месяцы Великой Отечественной войны изменили многие наши представления о военно-полевой хирургической деятельности, тем не менее опыт медсанбата с отдаленными результатами будет поучителен.
К сожалению, Куприянов, продержав рукопись у себя довольно долго, почему-то отнесся к ней более чем сдержанно, туманно ответив мне, что в настоящее время рекомендовать ее для печати не может. А так как его мнение в таких вопросах считалось тогда решающим, окончательным, книга света не увидела.
Не повезло монографии и после войны. Получившая высокие отзывы некоторых видных военно-полевых хирургов, даже главного хирурга нашей армии профессора А. А. Вишневского, она была отклонена Медгизом на том основании, что в портфеле издательства имеются десятки трудов по лечению раненых в Великую Отечественную войну: справиться бы с их изданием… А я, хотя и надеялся до последнего на выход книги, в которую вложил столько сил и труда, отнесся к этому «удару судьбы» в общем-то спокойно. Наверное, потому, что работа над первой в жизни книгой, сам процесс творчества, незабываемые минуты вдохновения дали мне много радости и, главное, научили, как нужно писать. Может, поэтому моя докторская диссертация и последующие монографии создавались на удивление легко, без натуги, с непокидающим ощущением душевного подъема. А кроме того, эта неизданная книга была моим добрым товарищем в дни блокады: сколько ночей, кутаясь в пальто, отгоняя назойливые мысли о еде, я провел над ее страницами!
Но даже в самую, казалось бы, безысходную пору, в последние месяцы 1941-го и первые месяцы 1942 года, особенно жестокие из-за страшного голода, в городе можно было услышать бодрое слово, веселую шутку и, конечно, песню. Ленинградцы держались, народ не поддавался унынию! Работали театры, в нетопленых концертных залах слушатели сидели в верхней одежде и рукавицах. И каждый праздник – та же встреча нового, сорок второго года – оставался праздником…
До конца дней не забыть этого первого военного Нового года! Истощенные до предела, измученные обстрелами и бомбежками, мы все же стремились отметить его как можно радостнее. Я был приглашен в гости своим давним другом Николаем Ивановичем Потаповым, работавшим на административно-хозяйственной должности в Пушкинском театре.
Поздно вечером я пошел в театр, в здании которого, в одной из комнат, отапливаемой небольшой печуркой, жили супруги Потаповы. В портфеле я нес немного хлеба и флакончик касторки. Катерина Тимофеевна приготовила деликатес тех дней: замесила лепешки из жмыха пополам с отрубями. Поджаренные на касторке, эти лепешки божественно хрустели на зубах! Были они микроскопических размеров, и каждому досталось по три штучки, ели, растягивая удовольствие… Кроме того, имелось немного разведенного спирта, сильно отдающего бензином, как раз по рюмке. Можно было сказать тост. А тосты произносились за Ленинград, за наших близких… И, придвинувшись вплотную к горящему огню, говорили, говорили, мечтая о том, как чудесно встретим первый послевоенный Новый год, какой разнообразный стол, не хуже довоенного, будет перед нами… Николай Иванович, оживившись, перешел на забавные театральные анекдоты, и мы так раскованно и заразительно смеялись, как давно никто из нас не смеялся!