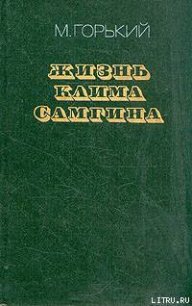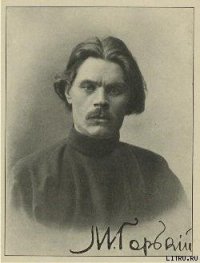Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая - Горький Максим (книги онлайн без регистрации txt) 📗
«Да, все-таки жить надобно в провинции», – подумал Клим.
На чугунной лестнице редакции его встретил Дронов, стремительно бежавший вниз.
– Ба! Когда приехал? Спивак – помер? А я думал: ты похоронное объявление несешь. Я хотел сбегать к жене его за справочкой для некролога.
Пропустив Самгина мимо себя, он одобрительно сказал:
– Цивильный костюм больше к лицу тебе, чем студенческая форма.
Сам он был одет щеголевато, жиденькие волосы его смазаны каким-то жиром и форсисто причесаны на косой пробор. Его новенькие ботинки негромко и вежливо скрипели. В нем вообще явилось что-то вежливенькое и благодушное. Он сел напротив Самгина за стол, выгнул грудь, обтянутую клетчатым жилетом, и на лице его явилось выражение готовности все сказать и все сделать. Играя золотым карандашиком, он рассказывал, подскакивая на стуле, точно ему было горячо сидеть:
– Как живем? Да – все так же. Редактор – плачет, потому что ни люди, ни события не хотят считаться с ним. Робинзон – уходит от нас, бунтует, говорит, что газета глупая и пошлая и что ежедневно, под заголовком, надобно печатать крупным шрифтом: «Долой самодержавие». Он тоже, должно быть, скоро умрет...
Проницательные глазки Дронова пытливо прилепились к лицу Самгина. Клим снял очки, ему показалось, что стекла вдруг помутнели.
– Редактор морщится и от твоих заметок, находит, что ты слишком мягок с декадентами, символистами – как их там?
Карандашик выскочил из его рук и подкатился к ногам Самгина. Дронов несколько секунд смотрел на карандаш, точно ожидая, что он сам прыгнет с пола в руку ему. Поняв, чего он ждет, Самгин откинулся на спинку стула и стал протирать очки. Тогда Дронов поднял карандаш и покатил его Самгину.
– Это мне одна актриса подарила, я ведь теперь и отдел театра веду. Правдин объявился марксистом, и редактор выжил его. Камень – настоящий сапфирчяк. Ну, а ты – как?
Появление редактора избавило Самгина от необходимости отвечать.
– Здравствуйте! – сказал редактор, сняв шляпу, и сообщил: – Жарко!
Он мог бы не говорить этого, череп его блестел, как тыква, окропленная росою. В кабинете редактор вытер лысину, утомленно сел за стол, вздохнув, открыл средний ящик стола и положил пред Самгиным пачку его рукописей, – все это, все его жесты Клим видел уже не раз.
– Извините, что я тороплюсь, но мне нужно к цензору.
Говорил он жалобно и смотрел на Самгина безнадежно.
– Не могу согласиться с вашим отношением к молодым поэтам, – куда они зовут? Подсматривать, как женщины купаются. Тогда как наши лучшие писатели и поэты...
Говорил он долго, точно забыв, что ему нужно к цензору, а кончил тем, что, ткнув пальцем в рукописи Самгина, крепко, так, что палец налился кровью, прижал их ко столу.
– Нет, с ними нужно беспощадно бороться. Он встал, подобрал губу.
– Не могу печатать. Это – проповедь грубейшей чувственности и бегства от жизни, от действительности, а вы – поощряете...
Самгин, сделав равнодушное лицо, молча злился, возражать редактору он не хотел, считая это ниже своего достоинства. На улицу вышли вместе, там редактор, протянув руку Самгину, сказал:
– Очень сожалею, но...
– Старый дурак, – выругался Самгин, переходя на теневую сторону улицы. Обидно было сознаться, что отказ редактора печатать рецензии огорчил его.
«Чего она стоит, действительность, которую тебе подносит Иван Дронов?» – сердито думал он, шагая мимо уютных домиков, и вспомнил умилительные речи Козлова.
Через сотню быстрых шагов он догнал двух людей, один был в дворянской фуражке, а другой – в панаме. Широкоплечие фигуры их заполнили всю панель, и, чтоб опередить их, нужно было сойти в грязь непросохшей мостовой. Он пошел сзади, посматривая на красные, жирные шеи. Левый, в панаме, сиповато, басом говорил:
– Во сне сколько ни ешь – сыт не будешь, а ты – во сне онучи жуешь. Какие мы хозяева на земле? Мой сын, студент второго курса, в хозяйстве понимает больше нас. Теперь, брат, живут по жидовской науке политической экономии, ее даже девчонки учат. Продавай все и – едем! Там деньги сделать можно, а здесь – жиды, Варавки, чорт знает что... Продавай...
Самгин сошел на мостовую, обогнал этих людей, и ленивый тенорок сказал вслед ему:
– Ну, что ж, продавать, так – продавать, на Восток, так – на Восток!
Самгин хотел взглянуть: какое лицо у тенора? Но поленился обернуться, сказывалась бессонная ночь, душистый воздух охмелял, даже думать лень было. Однако он подумал, что вот таких разговоров на улице память его поймала и хранит много, но все они – точно мушиные пятна на зеркале и годятся только для сочинения анекдотов. Затем он сознался, что плохо понимает, чего хотят поэты-символисты, но ему приятно, что они не воспевают страданий народа, не кричат «вперед, без страха и сомненья» и о заре «святого возрожденья».
Домой он пришел с желанием лечь и уснуть, но в его комнате у окна стояла Варвара, выглядывая в сад из-за косяка.
– Тише! – предупредила она шопотом. – Смотри. В саду, на зеленой скамье, под яблоней, сидела Елизавета Спивак, упираясь руками о скамью, неподвижная, как статуя; она смотрела прямо пред собою, глаза ее казались неестественно выпуклыми и гневными, а лицо, в мелких пятнах света и тени, как будто горело и таяло.
– Красиво сидит, – шептала Варвара. – Знаешь, кого я встретила в школе? Дунаева, рабочий, такой веселый, помнишь? Он там сторож или что-то в этом роде. Не узнал меня, но это он – нарочно.
Она шептала так оживленно, что Самгин догадался о причине оживления и спросил:
– Умер?
– Кажется. Ты – узнай.
Самгин вышел в столовую, там сидел доктор Любомудров, писал что-то и дышал на бумагу дымом папиросы.
– Что – как больной?
– Больного нет, – сказал доктор, не поднимая головы и как-то неумело скрипя по бумаге пером. – Вот, пишу для полиции бумажку о том, что человек законно и воистину помер.
Повинуясь странному любопытству и точно не веря доктору, Самгин вышел в сад, заглянул в окно флигеля, – маленький пианист лежал на постели у окна, почти упираясь подбородком в грудь; казалось, что он, прищурив глаза, утонувшие в темных ямах, непонятливо смотрит на ладони свои, сложенные ковшичками. Мебель из комнаты вынесли, и пустота ее очень убедительно показывала совершенное одиночество музыканта. Мухи ползали по лицу его.
Самгин снова почувствовал, что этот – хуже, страшнее, чем отец; в этом есть что-то жуткое, от чего горло сжимает судорога. Он быстро ушел, заботясь, чтоб Елизавета Львовна не заметила его.
– Что? – спросила Варвара.
Он утвердительно кивнул головой.
– Я догадалась об этом, – сказала она, легко вздохнув, сидя на краю стола и покачивая ногою в розоватом чулке. Самгин подошел, положил руки на плечи ее, хотел что-то сказать, но слова вспоминались постыдно стертые, глупые. Лучше бы она заговорила о каких-нибудь пустяках.
– Ты опрокинешь меня! – сказала она, обняв его ноги своими.
Он положил голову на плечо ее, тогда она, шепнув «Подожди!» – оттолкнула его, тихо закрыла окно, потом, заперев дверь, села на постель:
– Иди ко мне! Тебе – нехорошо? – тревожно и ласково спросила она, обнимая его, и через несколько минут Самгин благодарно шептал ей.
– Ты у меня – чуткая... умная.
А затем дни наполнились множеством мелких, но необходимых делишек и пошли быстрее. Пианиста одели в сюртучок, аккуратно уложили в хороший гроб, с фестончиками по краям, обильно украсили цветами, и зеленоватое лицо законно умершего человека как будто утратило смутившее Самгина жуткое выражение непонятливости. На дворе, под окном флигеля, отлично пели панихиду «любители хорового пения», хором управлял Корвин с красным, в форме римской пятерки, шрамом на лбу; шрам этот, несколько приподняв левую бровь Корвина, придал его туповатой физиономии нечто героическое. Когда Корвин желал, чтоб нарядные барышни хора пели более минорно, он давящим жестом опускал руку к земле, и конец тяжелого носа его тоже опускался в ложбинку между могучими усами. Клим вспомнил Инокова и тихонько спросил мать: где он? Крестя опавшую грудь. Вера Петровна молитвенно прошептала: