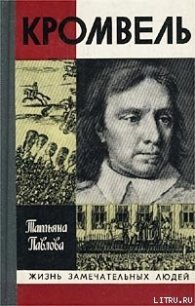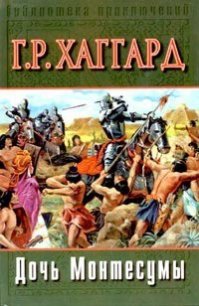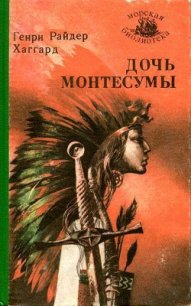Волчий зал - Мантел Хилари (читать книги онлайн .TXT) 📗
— Стегал воду удилищем и вышибал рыбам мозги, — говорит он. — Хватал их под жабры и орал: «На кого пялишься, зараза чешуйчатая? Я те дам на меня пялиться!»
— Уолтер Кромвель был не из тех, кто без дела греется на солнце, — объясняет Шон. — Я много чего мог бы о нем рассказать.
У мастера Ризли лицо удивленно-сосредоточенное. Мастеру Ризли невдомек, сколько можно узнать от лодочников, из их быстрого охального говорка. В двенадцать лет Кромвель свободно владел этим языком, и теперь слова приходят сами, природные, неочищенные. Есть прелесть в греческих цитатах, которыми он обменивается с Томасом Кранмером, с Зовите-меня-Ризли — прелесть первозданного наречия, свежего, как сочный молодой плод. Однако ни один эллинист не расскажет тебе, как Шон, что думает Патни о клятых Булленах. Генрих баловался с мамашей — на здоровьице. Баловался с сестрицей — а для чего еще и быть королем? Однако пора и честь знать. Мы же не звери лесные. Шон называет Анну угрем, склизкой ползучей гадиной, и Кромвелю вспоминаются слова кардинала про Мелузину. Шон говорит, она балуется с братом, и он спрашивает: с Джорджем?
— А как бы его ни звали. У них вся семейка такая. Они занимаются французскими мерзостями, ну, знаете…
— Нельзя ли потише? — Он опасливо смотрит назад, как будто за лодкой могут плыть соглядатаи.
— Оттого она за себя спокойна, что не уступит королю, потому как ежели он ее обрюхатит, то спасибо, девонька, а теперь проваливай, вот она и говорит, нет, ваше величество, никак не можно, а ей-то что? Она-то знает, что в ту же ночь братец вылижет ее до печенки, а когда он спросит, сестрица, что мне делать с этим большим кулем, она ответит, не извольте печалиться, милорд братец, затолкайте его в заднюю дверь, там он никакого урона не причинит.
— Спасибо, — говорит он, — я и не знал, как они управляются.
Молодые люди понимают примерно одно слово из трех. Он платит Шону много больше, чем тот запросил. Ну и фантазия у лодочников! Он будет с удовольствием вспоминать измышления Шона. Так непохоже на настоящую Анну.
Дома Грегори спрашивает:
— Надо ли позволять людям такое болтать? Да еще и вознаграждать их деньгами?
— Шон говорил что думает. И если ты хочешь узнать, что у людей на уме…
— Зовите-меня-Ризли тебя боится. Говорит, когда вы вместе с секретарем Гардинером возвращались из Челси, ты грозился выкинуть его из собственной барки и утопить.
Ему этот разговор помнится совершенно иначе.
— И что, Зовите-меня считает, что я на такое способен?
— Да. Он считает, что ты способен на все.
На Новый год он дарит Анне серебряные вилки с рукоятками из горного хрусталя и надеется, что она будет ими есть, а не втыкать их в людей.
— Венецианские! — Анна с удовольствием вертит вилки, любуясь игрой света в хрустале.
Он принес еще один подарок, завернутый в небесно-голубой шелк.
— Это для девочки, которая все время плачет.
Анна удивлена.
— Вы разве не знаете? — Ее глаза вспыхивают злорадным удовольствием. — Наклонитесь поближе, я шепну вам на ухо. — Она прикасается к нему щекой, и он чувствует легкий аромат: роза, амбра. — Сэр Джон Сеймур? Милейший сэр Джон? Старыйсэр Джон, как его называют.
Сэр Джон старше его от силы лет на десять-двенадцать, однако благодушие старит. Впечатление такое, что Сеймур удалился на покой, предоставив сыновьям, Эдварду и Тому, блистать при дворе.
— Теперь понятно, почему мы никогда его не видим, — продолжает Анна. — И чем он занимался в деревне.
— Охотился, наверное.
— Да, и поймал в силок Кэтрин Филлол, жену Эдварда. Их застали в самом неподобающем виде, только я не смогла выяснить, где: в его постели или в ее, в поле или на сене. Да, прохладно, однако они друг друга согревали. И теперь сэр Джон сознался во всем — так и сказал в лицо сыну, что имел ее каждую неделю, начиная со дня свадьбы, то есть два года и, скажем, еще шесть месяцев, всего…
— Можно округлить до ста двадцати раз, если учитывать основные посты.
— Прелюбодеи не воздерживаются даже в великий пост.
— Надо же. Я думал, воздерживаются.
— У нее двое детей, так что, допустим, был перерыв на роды… И оба — мальчики. Можете вообразить, каково сейчас Эдварду.
Эдвард Сеймур с чистым орлиным профилем. Да, можно вообразить, каково ему сейчас.
— Он отказался от обоих. Теперь они будут считаться бастардами. Кэтрин Филлол отправят в монастырь. А надо было бы посадить ее в клетку! Эдвард подал прошение, чтобы брак объявили недействительным. Что до милейшего сэра Джона, думаю, мы нескоро увидим его при дворе.
— А почему шепотом? Наверняка я последний человек в Лондоне, который еще не знал.
— Король не знает. А вам известно, как он благонравен. Так что если кто-нибудь подойдет к его величеству с грубой шуткой по этому поводу, пусть это будем не вы и не я.
— А что дочь? Джейн то есть.
Анна фыркает.
— Бледная немочь? Уехала в Уилтшир. А лучше бы отправилась в монастырь вместе с невесткой. Ее сестра Лиззи удачно пристроена, но нашу мямлю никто не брал замуж, а теперь уж точно не возьмет. — Она вновь замечает подарок и с внезапным подозрением спрашивает: — Что это?
— Книга с узорами для вышивки.
— А… что угодно, лишь бы не перетрудить ее бедную головушку. Почему вы решили сделать ей подарок?
— Мне ее жаль.
А теперь, конечно, еще больше.
— Хм. Она вам что, нравится? — (Правильный ответ: нет, леди Анна, мне нравитесь только вы.) — Пристало ли вам отправлять ей подарки?
— О, это не Боккаччо.
Она смеется.
— Они могли бы рассказать Боккаччо много нового, эти грешники из Волчьего зала.
На исходе февраля сожгли священника Томаса Хиттона, арестованного епископом Рочестерским Фишером за контрабандный ввоз тиндейловской Библии. Некоторое время спустя гости, вставшие после скромного епископского ужина, повалились на пол в конвульсиях, исходя рвотой; бледных и полуживых от боли, их уложили в постель и поручили заботам лекарей. Доктор Беттс сказал, что они отравились бульоном: по свидетельству опрошенных слуг, только это блюдо ели все присутствовавшие.
Есть яды, которые возникают в природе без чьей-либо злой воли — так что сам он, прежде чем отдавать епископского повара палачам, заглянул бы на кухню и снял пробу с бульона. Однако остальные убеждены, что это убийство.
Повар сознается, что подсыпал в суп белый порошок, полученный от одного человека. От кого? От незнакомца, который сказал, что будет отличной шуткой, если Фишера и его друзей прихватит понос.
Король вне себя от ярости и страха. Винит еретиков. Доктор Беттс качает головой, теребит нижнюю губу. Его величество, говорит доктор, боится яда сильнее, чем адовых мук.
Станете вы подсыпать в еду неизвестный порошок, потому что незнакомец сказал, что это будет потешно? Повар молчит, а возможно, не в силах ничего сказать. Дознаватели переусердствовали, говорит он Беттсу, интересно, нарочно или по чьему-то указанию. Доктор, любящий слово Божие, отвечает с невеселым смешком: «Если они хотели узнать правду, им следовало пригласить Томаса Мора».
Говорят, что лорд-канцлер в совершенстве освоил двойное искусство: растягивать и сжимать Божьих слуг. Когда еретиков доставляют в Тауэр, Мор стоит и смотрит, как их пытают. Говорят, у себя в Челси он держит арестованных в колодках, читает им наставления и требует: назови своего печатника, назови шкипера, который привез эти книги в Англию. Говорят, он пускает в ход бич, кандалы и тиски, называемые Скевингтонова дочка: в них помещают человека, согнутого в три погибели, и закручивают винт, пока не начнут трескаться ребра. Нужно большое искусство, чтобы арестант не задохнулся, потому что если он задохнется, от него уже ничего не узнаешь.
За неделю умирают двое из епископских гостей. Сам Фишер выкарабкивается. Он, Кромвель, думает, что повар, возможно, и назвал на допросе какие-то имена, но их обычным подданным знать не положено.