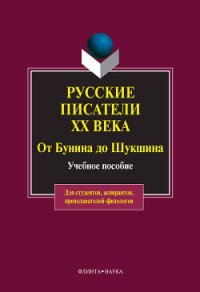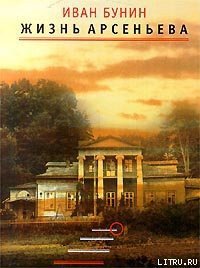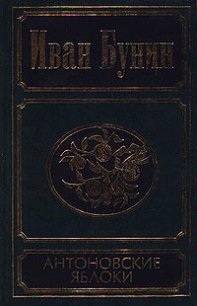Жизнь Бунина. 1870 - 1906. Беседы с памятью - Бунина Вера Николаевна (книги онлайн полностью бесплатно txt) 📗
Стояла рабочая пора. Евгений Алексеевич лошади не дал. Пришлось за дорогую цену Ивану Алексеевичу нанять лошадь в деревне у Якова, мужика скупого и хозяйственного. «Выехали ранним утром, когда особенно хорошо в погожие июльские дни бывает только в средней полосе России, в подстепье. Ехать нужно было двадцать пять верст. Яков все время соскакивал с облучка телеги и шел рядом. Я не знал, что делать, боялся не застать Виганда дома...» — вспоминал об этой поездке Иван Алексеевич незадолго до своей кончины. Ему было тяжело, — он был суеверен, за год третье испытание, — две смерти он пережил.
К счастью, он застал доктора дома, и тот согласился приехать. К общей радости, Людмила Александровна, с помощью редкого врача и благодаря своему сильному организму, начала поправляться.
Из заграничной поездки вернулся и Юлий Алексеевич. Младшему сыну стало легче, и он принялся за писание, прерванное известием о болезни матери.
Это полугодие дало хороший урожай: более тридцати стихов помечены 1905 годом. Среди них «Сапсан» и «Русская весна» (написаны до известия о смерти сына).
Затем наступило молчание, и только весной он снова стал писать стихи. Среди них «Новая весна», «Ольха», «Олень», «Эльбурс» (иранский миф), «Послушник» (грузинская песнь), «Хая-Баш» (мертвая голова), «Тэмджид» (с эпиграфом из Корана), «Тайна» (с эпиграфом из Корана), «Потоп» (халдейский миф), «С острогой», «Мистику», «Стамбул».
Видно, что он пристально читал Библию и изучал Коран, вспоминал прошлогоднее путешествие по Кавказу и, конечно, пребывание в Константинополе «незабвенной весной 1903 года».
4
«В 1905 году, с конца сентября и до 18 октября, — писал Иван Алексеевич, — я в последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей Павловной и «мамашей», Евгенией Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно и очень нелегко для меня: все вокруг, — и в саду, и в доме, и в его кабинете — было как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставлять в полном одиночестве этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки, душевной скрытности; часто я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: «Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!» Да и мне самому было трудно покинуть {243} этот уже ставший чуть ли не родным для меня дом, — а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него, — этот кабинет, где особенно все осталось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек, купленных им по пути с Сахалина в Коломбо, безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня, — я бы строки не мог написать среди них, — его узенькая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть, когда что-нибудь читал, лежало «Воскресение» Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной».
Осталась краткая запись Ивана Алексеевича:
«Маленькая Ялта, розы, кипарисы... Кофейня на сваях возле набережной, мои утра там. Купальщицы — не в костюмах, а в рубашках, вздувающихся на воде».
Так грустно и тихо текла жизнь до 17 октября, когда зазвонил телефон и раздался взволнованный голос приятельницы Чеховых Софьи Павловны Бонье, страстной поклонницы всех писателей. Она, сама себя перебивая, сообщала, что в России революция, что поезда не ходят и т. д. и т. д.
Иван Алексеевич сбежал в город, там тоже узнал приблизительно то, что рассказывала Бонье. Его охватил страх застрять в Ялте. Он кинулся на пристань и в порту узнал, что на следующее утро отходит в Одессу пароход «Ксения». Вернувшись, он сообщил Чеховым о своем отъезде, но они его уже не задерживали, понимая, что ему будет беспокойно жить вдали от родных. Ночь он почти не спал, встал ни свет, ни заря, быстро напился кофию и, «чуть не плача», распростился с Марьей Павловной и «мамашей» и к отходу парохода был на месте.
Привожу дневник Бунина этих дней:
«Ксения» 18 октября 1905 года.
Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни все время стояли серенькие, осенние, жизнь наша с М. П. и мамашей (Евгенией Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило нас всех вчера перед вечером, вдруг зазвонил из кабинета Антона Павловича телефон и, когда я вошел туда и взял трубку, Софья Павловна стала кричать мне в нее, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действует телеграф и почта, государь уже в Германии — Вильгельм прислал за ним броненосец. Тотчас пошел в город — какие-то жуткие сумерки и везде волнения, {244} кучки народа, быстрые и таинственные разговоры — все говорят почти то же самое, что Софья Павловна. Вчера стало известно, уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят... Не получили ни газет, ни писем, почта и телеграф закрыты. Меня охватил просто ужас застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на пристань — слава Богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.
Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет «Ксения». На душе тяжесть, тревога. Погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее. В Севастополе сейчас сбежал с парохода и побежал в город. Купил «Крымский Вестник», с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову. И вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест свободы слова, союзов и вообще всех «свобод». Взволновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в «Крымский Вестник». Возле редакции несколько человек чего-то ждут. В кабинете редактора (Шапиро) прочел, наконец, манифест! Какой-то жуткий восторг, чувство великого события.
Сейчас ночью (в пути в Одессу) долгий разговор с вахтенным на носу. Совсем интеллигентный человек, только с сильным малороссийским акцентом. Настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая, угрожающая. Говорит, не оборачиваясь, глядя в темную равнину бегущего навстречу моря.
Одесса 19 октября.
Возле Тарханкута, как всегда, стало покачивать. Разделся и лег, волны уже дерут по стене, опускаются все ниже. Качка мне всегда приятна, тут было особенно — как-то это сливалось с моей внутренней взволнованностью. Почти не спал, все возбужденно думал, в шестом часу отдернул занавеску на иллюминаторе: неприязненно светает, под иллюминатором горами ходит зеленая холодная вода, из-за этих гор — рубин маяка Большого Фонтана. Краски серо-фиолетовые; рассвет и эти зеленые горы воды и рубин маяка. Качает так, что порой совсем кладет.
Пристали около восьми, утро сырое, дождливое, с противным ветром. В тесноте, в толпе, в ожидании сходен, узнаю от носильщиков, кавказца и хохла, что на Дальницкой убили несколько человек евреев, — убили будто бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придал особого значения этому слуху, может и ложному. Приехал в Петербургскую гостиницу, увидал во дворе солдат. Спросил швейцара: «Почему солдаты?» Он только {245} смутно усмехнулся. Поспешно напился кофию и вышел. Небольшой дождь, сквозь туман сияние солнца — и все везде пусто: лавки заперты, нет извозчиков. Прошел, ища телеграммы, по Дерибасовской. Нашел только «Ведомости Градоначальства». Воззвание градоначальника, — призывает к спокойствию. Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию «Южного Обозрения». Тесное помещение редакции набито евреями с грустными серьезными лицами. К стене прислонен большой венок с красными лентами, на которых надпись: «Павшим за свободу». Зак, Ланде (Изгоев). Он говорит: «Последние дни наши пришли». — «Почему?» — «Подымается из порта патриотическая манифестация. Вы на похороны пойдете?» — «Да ведь могут голову проломить?» — «Могут. Понесут по Преображенской».