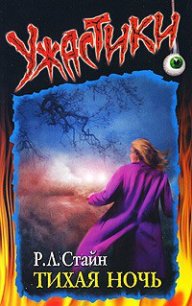Милые мальчики - Реве Герард (лучшие книги онлайн .txt) 📗
— Ай, перестань. — Я схватил Тигра за руку и завернул ее ему за спину.
— Ты же никому никогда… а? в себя?
— Нет, никогда.
— Уверен?
— Да. Ай!
— Что «да»? Уверен?
— Что я никогда никого в себя не пускаю. Никого, никогда, зверь. Я твой.
Я выпустил руку Тигра, прильнул к нему и снова принялся орудовать своей Штуковиной.
— Вот как ты должен действовать, сластолюбивый мой Тигра-зверь. Входную дверь оставишь наполовину открытой — там, в Летнем Дворце. Ее нам отсюда будет видно. Если старик это заметит, ему ничего такого в голову не придет. Но дверь тебе надо будет загородить — ведрами, граблями, всяким таким, газонокосилку поставь, ведро с грязной водой — так, что если глухарь его опрокинет, сможешь от души его послать. И дверь в комнатушку тоже, в точности так же: оставь полуоткрытой, но так, чтобы особо было не пройти из-за хлама в дверях — или лучше сказать, за ними. Все открыто, но никто ничего не сможет рассмотреть, и войти никто не сможет — столько там всего навалено. А тем временем ты наверху, на маленьком чердаке, в приятном тепле уютного батрацкого приюта лелеешь пыл жестокой, похотливой любви — любви солдата и мужчины. Если тебе не нравится его мордашка — просто закрой глаза, вцепись в него и дай ему потрогать твой Клинок, зверь. И думай о… о Сьорсе, я имею в виду Сьорса В., или о Сьюрде, Сьюрд Н., с этой его крупной, милой юношеской задницей, и о том немчике, блядовит он был малость, немчик этот, на старом черном Фольксвагене, в своих коротких черных бархатных походных штанишках, в машине, из Вупперталя вроде, в таких еще не то лыжных, не то горных высоких башмаках на волосатых ножищах, — воображал, что он — настоящий мужик… Милый… милый… Ты меня любишь?
— Да, я люблю тебя, зверь.
— Очень? Как сильно?
— Ужасно сильно, зверь.
— Всегда?
— Да, всегда.
— Ты пойдешь завтра в Летний Дворец?
— Да, я пойду завтра в Летний Дворец.
— Помнишь, что ты должен сделать. Послушай… Помнишь, там во внутреннем дворике лежит метла.
— Метла…
— Ну, прутья же. Мы тогда обрезали ивы, но я тогда не все ветки сжег.
— Не все. Ах, да!
— Тогда у меня не все в порядке с головой было, помнишь, в то время, когда я все хотел делать своими руками. И вот тогда я смастерил эту метлу на длинном черенке, пышную, из ивовых прутьев. Она все еще там лежит. В углу. У первого розового куста. Возле деревянного фасада соседского сарайчика, на котором сетка для вьюнков. Деревянный фасад, из планок сбитый, на него еще проволочная сеть натянута, его прямо отсюда видать. Если ты будешь там с ним, и он послужит тебе и разденется перед тобой, и ты сделаешь с ним то, что хочешь, солдат мой, то подними эту метлу, черенком вниз, запихни ее за сетку фасада, так, чтобы мы здесь видели. Сделаешь? Потискай мне мешочек.
— Да, хорошо.
— Сделаешь? Обещаешь?
— Да, сделаю.
— Знаешь… что ты еще… еще можешь сделать, Тигр?
— Нет, а что?
— Если ты сделаешь с ним… это дело… если ты его… возьмешь… О боже, мужчина мой… попроси его тогда, чтобы он сразу не одевался. Он такой красивый, ты хочешь нарисовать его, изваять, хочешь увековечить его прекрасное мальчишеское тело в глине, ну, не знаю. Спроси его, не хочет ли он еще немного полежать голым. А сам быстренько оденься, выйди во двор и просунь мою метлу в эту проволочную сетку. И, Тигр, вытяни из нее самый длинный прут. Они еще гибкие, эти ветки. Там желоб протекает, в углу, и пара прутьев опять пустила листья… Вытащи самый длинный, и вернись в комнату, и запрись на все замки, и подойди к этому красивому голому юному зверю, с прутом в руке… На тебе сапоги, безжалостный мой рекрут… и ты хлещешь его, и длинный гибкий ивовый прут свистит в воздухе, Тигр; и я вижу знак, я вижу стоящую у стены метлу, и я иду к тебе, и тоже вытягиваю из метлы прут, самый длинный, самый гибкий, уже покрытый мелкими зелеными листочками, и ты слышишь, как я подхожу к дому, а я слышу в доме дуэт его меццо-сопрано с ивовым прутом, и я называю у дверей пароль… и ты впускаешь меня, и я целую тебя, и трепещу, и ты вновь запираешь за мной двери, и гоняешь его хлыстом, голого, этого мелкого проблядка, и он пытается ускользнуть от тебя ко мне, а я, хлеща, отгоняю его назад к тебе… Он кричит… кричит… Юношеская кровь струится по его ногам… Ты заставляешь его вопить еще громче, и хлещешь все сильнее, по его светлой попке, заставляешь его петь и плясать… этого маленького шлюхача… эту блядь… Тигр, Тигр… ты правда меня любишь?
Чудо вновь явилось мне, мои содрогания утихли, и вновь я уставился мимо Тигра, в пустоту.
— Да, зверь. Я в самом деле тебя люблю.
Я лежал неподвижно. Надо мной, в незашторенном чердачном оконце по освещенному узким лунным серпиком небу, полному бездонных пропастей и грозовых туч, проносилась моя безысходная жизнь.
— Спокойной ночи, Тигр.
— Спокойной ночи, зверь.
Еще в течение долгих часов я буду лежать без сна, уставясь вверх. Почему я не не ответил ему тем же: «Я тоже люблю тебя, Тигр»? Этого я не знал, и никогда не узнаю.
Глава девятая
Милые мальчики
Я почти не спал. Где-то за полчаса до первых признаков рассвета я ненадолго провалился в полудрему, из которой, словно толчком, был вырван вновь, без видимой причины. День еще не наступил, но за чердачным окном уже начало светать. Мои ворочанья с боку на бок и бессонные вздохи могли бы разбудить Тигра; кроме того, я ощущал себя еще более распаленным, еще более снедаемым похотью, еще более влюбленным в Любовь, как никогда дотоле, и, насколько я знал, останься я лежать в постели, я неизбежно принялся бы щупать и тискать Тигра и досаждать ему бог весть какими еще оральными излияниями. Я встал, прихватив одежду и туфли, спустился вниз, в Малую Гостиную, и там оделся — чересчур легко для улицы, как я заметил потом, когда, небрежно утеревшись и не вполне обсохнув после умывания, вышел на прохладный утренний ветерок. Уже совсем рассвело, небо почти полностью посветлело, и солнце слева от деревни В. готовилось начать свое величественное восхождение над горизонтом, окрашивая небо светом совершенно неправдоподобной зари, казавшейся скорее заходом солнца с картины или репродукции некоей испещренной лужицами цветущей вересковой пустоши — нижние кромки облаков с удлиненными, относительно прямоугольными горизонтальными пятнами, тронутыми почти бесцветной сиреневизной, за которыми с изумительной соразмерностью веером распускалась рембрандтова корона лучей, точно наливающаяся сиянием декорация на сцене некоего евангелизационного зальчика. От этого было просто невозможно отвести глаз, какого бы циника ты из себя не строил. Наша деревушка Г. еще спала. На мостовой, у развилки дороги и маленькой аллеи, ведущей к нашему дому, я опустился на колено, обратив лицо к увертюре неотвратимого нового дня, который вновь сделает нас свидетелями многих чудес и благостей Господних. Я дрожал, поскольку теперь уже основательно промерз, но отказался от мысли вернуться в дом и накинуть что-нибудь поверх моей тонкой хлопчатобумажной рубахи. В сущности, мне хотелось встать на оба колена, но я не мог себя заставить, так же как не осмеливался убеждать себя в том, что в деревне все еще спят и никто не успеет заметить меня до того, как я успею подняться.
«Послушай — а что, если Ты просто дашь мне понять, чего именно Ты желаешь?» — пробормотал я. — «Я стою, коленопреклоненный, словно на триптихе Яна Ван Эйка или Мемлинка[80], или кого там из них еще. На недостаток культуры не жалуемся. Я хочу сказать, я не делаю ничего особенного. Моя ли в том вина? Я стою здесь, преклонив колено, в мертвой тишине, и ни единой души вокруг, и ни звука, ведь правда? Черт возьми, нельзя же сказать, что я самого себя продрых — или все-таки да? Вот что я имею в виду. Послушай, если Ты что-то имеешь сейчас, я хочу сказать, если Тебе сейчас от меня что-то нужно, или Ты, так сказать, хочешь поведать мне что-то, то я — весь внимание и послушание и повиновение, ведь это так называется?» Верхний край солнца, коснувшись наконец горизонта, поднялся над ним, и корону лучей сменил гладкий, лимонно-желтый, переходящий в светло-оранжевое холст. Я встал и зашагал в направлении деревни В., к Летнему Дворцу. В моей связке не оказалось ключа, который — как я теперь вспомнил — давно уже был отдан соседям на тот случай, если им понадобится что-то занести или забрать оттуда. В садик перед домом или позади него я, в сущности, попасть мог — но не в сам домик, не говоря уже об окруженном стеной внутреннем дворике — в прошлом конюшне, с которой мы сняли крышу — в него можно было проникнуть только из самого домишки. По двум боковым веткам я забрался на росшую у канавы иву и заглянул через невысокую, едва ли в человеческий рост, стену. Во дворике стояло несколько не то ящиков, не то коробок с приготовленными для высадки клубнями или луковицами, и ветер гонял длинный кусок целлофана по небольшому пространству, которое, ввиду его неудачного расположения, невзирая на окружавшие стены, было скорее отдано на волю ветра, нежели было защищено от него, так что, в сущности, мы никогда, кроме как в моменты полного безветрия, не могли посидеть там в полное удовольствие. Через стену мне удалось разглядеть стоявший там в углу под протекающим желобом веник или метлу, которую я смастерил как-то в припадке хозяйственности, хотя ей, понятно, никто никогда не пользовался. Реквизиты для некоей весьма сложной — или, вполне возможно, как раз весьма примитивной — человеческой драмы были готовы — по крайней мере, что касалось меня. «Там, где все в твоих руках, можешь сам разобраться, не правда ли? — подумал я. — Остальное — уж как повезет». Совершенной ясности в том, что я хотел этим сказать, у меня не было. Солнце уже совсем взошло, но не давало пока ощутимого тепла; все еще сильный ночной ветер поддувал мне в спину на моем пути назад, к Дому «Трава» и, пробираясь под брюки к моему «бомбардону», доводил до окоченения мою Заветную Штуку. «Ах, хочешь Ты, не хочешь… — пробормотал я. — В сущности — давай уж будем до конца откровенны — в сущности, мне это до лампочки. Не хочу показаться неучтивым, но никогда не получается так, как Ты хочешь, а всегда сводится к трепотне и бреду собачьему, правда ведь? Ну и что с того?»