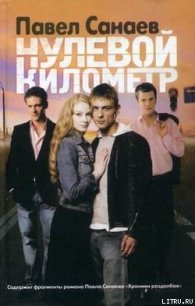Хроники Раздолбая - Санаев Павел Владимирович (читать книги txt) 📗
Ужин под стук колес соединил их в первом доверительном разговоре. Если раньше Диана лишь скупо отвечала на вопросы и смеялась над шутками, то теперь она расспрашивала его о жизни и словно хотела понять, что за человек ее увез. Он рассказывал про учебу, живописуя, какие придурки учатся с ним на курсе и как выгодно он от них отличается; нахваливал свой кассетный бизнес, посмеиваясь над пионерами, клянчащими вожделенные записи; говорил, что собирался рисовать в издательстве, но теперь сомневается в этом, потому что два десятка записанных кассет приносят больше, чем недельный труд любого художника.
— Любой художник и хороший художник — большая разница, — сказала Диана так назидательно, словно по умолчанию относила его к «любым».
— Я мог бы стать хорошим, — заступился он за себя и предъявил в доказательство фотографию написанного для отчима портрета.
Ему не нравилось считаться в глазах любимой девушки посредственностью даже в таком деле, которым он собирался пренебречь, и он хотел показать, что мог бы достичь в этом деле высот, если бы не выбрал более выгодное занятие.
— И ты считаешь, что писать кассеты лучше? — удивилась Диана, оценив портрет Достоевского.
— В любом случае — выгоднее.
— Не знаю… Я не могла бы восхищаться человеком, который пишет кассеты. Это пусто — ни труда, ни умения… Меня восхищают такие люди, как Миша. Я сама музыкант, знаю, что такое каждый день горбатиться за инструментом, но столько заниматься, как он, — надо быть Титаном.
— Ну, я же не завязываю с рисованием совсем, — заюлил Раздолбай, досадуя, что Диана говорит почти как дядя Володя и вот-вот устроит ему воспитательную беседу. — Кассеты писать, между прочим, не пустое дело. Нужно искать клиентов, писать списки… Но ты права, конечно, рисовать сложнее, так что в Мишиной шкуре мне тоже бывать приходится. Ну, а ты? Хочешь давать концерты, как он?
— Не знаю, не уверена. У меня впереди такие перемены в жизни, что сейчас нельзя ничего загадывать.
— Какие?
— Не важно… С тобой еду. Зачем ты меня вообще увез?
— Хотел пригласить на отличный спектакль.
— Не ври.
— Правда.
— Неправда, и любую неправду я вижу. Кто так приглашает? Запихнул в вагон, в чем была! В Москве, наверное, холод, а на мне сарафан марлевый. Хорошо, мама косметичку дала. Мама у меня ничего, да? Знает, что дочке в первую очередь надо — дезодорант и косметичка. Зачем это все? Что ты от меня хочешь?
Доверительный разговор превратился в допрос, и Раздолбай стал невольно оправдываться.
— Мне было с тобой хорошо, не хотел расставаться.
— А сейчас тебе хорошо со мной?
— Да.
— Опять врешь.
— Почему?
— Потому что ты напряжен, как на экзамене. Со мной многие так общаются, и я даже не понимаю, ради чего люди себя мучают. Только Андрей со мной абсолютно свободен, и поэтому ближе всех.
Раздолбай чуть не ляпнул «посмотришь спектакль — вернешься к своему Андрею», но внутренний голос остановил его и подсказал, что отвечать.
— Андрей — парень свободный, захотел — в поход ушел, — заговорил он, словно под диктовку. — Конечно, я напряжен! Не каждый день увожу девушек с одной косметичкой. Думаю, во что тебя в Москве одеть, чем развлечь до спектакля. Но почему ты решила, что я от тебя чего-то хочу? Я тебе говорил, в жизни важны яркие приключения, а что может быть ярче такой спонтанной поездки? Было бы лучше, если бы ты сидела в день рождения дома, Андрею названивала? У него в байдарке телефона нет.
Диана слушала с таким удивлением, словно он говорил именно то, что она хотела, но не предполагала от него услышать.
— Давай не будем обсуждать, плохо или хорошо то, что я увез тебя. Это уже случилось, будем лучше думать, как провести это время весело. Еще по бокалу шампанского?
Ее согласие он счел капитуляцией. После нескольких глотков у них в крови вскипели пузырьки, оставшиеся от выпитой раньше бутылки, и разговор снова стал доверительным. Раздолбаю казалось, что они становятся ближе, но вместо радости он ощущал приближение панического ужаса. Подобное чувство он испытывал в пионерском лагере, когда в знойный день вожатый повел их отряд купаться на речку. Все радостно галдели, предвкушая удовольствие, он напоказ веселился вместе со всеми, но каждый шаг по дороге к реке усиливал хватку паники, сжимавшей его сердце, — он не умел плавать и не знал водоема глубже домашней ванны. Войти в широкую реку и плескаться хотя бы у берега было страшно до обморока, но остаться на берегу — значило попасть под обстрел насмешек, а это казалось еще страшнее. От волнения он ничего не соображал и забрел в воду с часами на запястье и с кепкой на голове. На глубине по грудь он подвернул ногу на склизкой донной коряге, окунулся с головой и, потеряв опору, стал барахтаться и тонуть. Вожатый вытащил его на берег под гомерический хохот отряда, кепка уплыла по течению, часы «Полет» навсегда остановились на отметке двенадцать сорок.
Страх по дороге к реке оказался предчувствием катастрофы, и такое же предчувствие было у него сейчас в отношении возможной близости с Дианой.
«Как я буду с ней это делать? Я не умею, не знаю, как это! — думал он, снова представляя себя кенгуру, топчущимся на сброшенных брюках. — Обнять, взять за грудь, потом языком вокруг соска, как в фильмах… О, нет! Какой толк, что я видел фильмы? Соревнования по плаванию я тоже видел, до того как в кепке в реку вошел!»
Перед его глазами живо нарисовалась картина превращения триумфа в фиаско. Два-три прикосновения, и он ляжет рядом с раздетой Дианой мокрый и бессильный, а она посмотрит на него и спросит: «Ради этого я уехала с тобой, в чем была?» И он, такой блистательный до этого, так лихо вскруживший ей голову, стыдливо признается, что делает это первый раз. Потом об этом узнает вся рижская компания, и его поднимут на смех.
— Господи! — взмолился Раздолбай. — Ты говоришь «дано будет», и я начинаю верить, но я не смогу сделать это, даже если будет дано! Я отказался тогда от возможности потренироваться, помнишь? Просил тебя сделать так, чтобы первый раз было по любви, но я боюсь этого и знаю, что не смогу. Если бы она сама… Господи, помоги мне! Сделай так, чтобы она сама сделала первый шаг. Если она первой начнет, я хотя бы не буду бояться неудачи так сильно.
— Ну ты, брат, даешь! Может, еще ангела прислать, чтобы вместо тебя все сделал? — посмеялся голос. — Не трусь, все сложится, как надо.
«Ладно… В поезде мы все равно ничего делать не будем, и до завтрашнего вечера можно не волноваться. После спектакля возьму опять шампанского, предложу заехать ко мне, и там… О, нет! Спокойно, спокойно… До этого еще почти сутки, не надо психовать раньше времени».
Получив поддержку «внутреннего Бога» и успокоив себя тем, что самое страшное начнется не раньше, чем к следующему вечеру, Раздолбай вынырнул из панического омута и снова стал обращать внимание на речь Дианы.
— …мне было шесть лет, когда мы с мамой поехали в Польшу и оказались на концерте Марты Аргерих, и я была в потрясении два дня! — делилась она. — Я думала: «Боже мой, кем надо быть, чтобы так играть?» Ходила, словно пришибленная, а потом решила, что хочу так тоже, и попросила записать меня в музыкалку. Ужас в том, что десять лет ушло на понимание своего уровня и осознание, что Аргерих из меня никогда не выйдет. Ни-ког-да, понимаешь?
Он сочувственно покивал, представил, что она прочитала бы его недавние мысли, и с трудом подавил смешок.
— Мой потолок — музыкальный педагог или средний аккомпаниатор, — продолжала откровенничать Диана. — И чтобы понять это, скажу по-английски, ушло ten fucking years of hard work! [62]
— У тебя хорошее произношение, — удивился Раздолбай и не удержался от подколки: — Часто говоришь слово fuck? [63]
— Я и говорю часто, и думаю про это часто. Чаще, чем надо на самом деле, и если бы не дисциплина музыки, меня понесло бы уже черт знает куда.
62
Десять долбаных лет тяжелой работы.
63
Долбиться (эфм.).