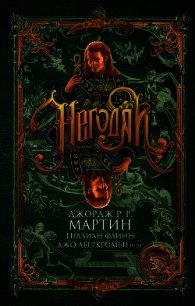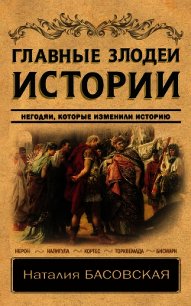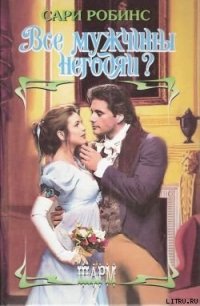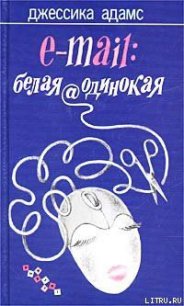Предсказание будущего - Пьецух Вячеслав Алексеевич (книги бесплатно без .TXT) 📗
— Мама, беда: я разорвал штанишки.
Я не знаю, что жена отвечает на это, когда меня нет поблизости, скорее всего, что ничего не отвечает, а принимается за починку, но если я тут как тут, она не прими-нет сказать что-нибудь вроде:
— Не горюй, Саша. Вот папа получит Нобелевскую премию — новые купим тебе штанишки.
Между прочим, по этой причине моя теща полагает, что Нобелевская премия — это что-то вроде прогрессивки, максимум рублей тридцать.
Кроме семейных неурядиц, моим литературным занятиям серьезно мешают некоторые чисто технические обстоятельства, поскольку педагогическая деятельность оставляет мне для писания только субботние вечера и первую половину воскресений; в методические же дни, которые у меня падают на четверг, я хожу то в институт повышения квалификации, то на семинары по противопожарной безопасности, то в нашу районную библиотеку; из-за этого по субботам я пишу на кухне, а по воскресеньям в ванной комнате.
Но едва ли не первая по значению сложность заключается в том, что я тяжело пишу. То есть писание дается мне с такими трудами, что из восьми часов, в течение которых я обычно пишу, я семь часов думаю и один час пишу. Думы мои далеко не всегда имеют отношение к тому, что я в этот момент пишу; я могу думать о носорогах, о демографическом взрыве, о том, что если бы Достоевский не страдал эпилепсией, то это был бы благостный и, возможно, даже юмористический писатель, об озоновых дырах, телепатии и так далее. Однако чаще всего я думаю о словах. Что именно я думаю о словах: что есть диковинные слова, которые означают вещи, не существующие в природе, например — суть; что это нехорошо, что слово «товарищ» происходит от слова «товар»; что есть странные русско-греческие слова, например, «многократно»; что самое энергичное слово в русском языке — «вор». Время от времени я еще придумываю новые знаки препинания.
В конце концов я начинаю писать. Поначалу фразы лезут из меня тошнотворно тяжело и выходят такими неуклюжими и тупыми, что я в отчаянье кошусь на миниатюрные портреты Чехова и Толстого, которые всегда расставляю подле себя, прежде чем сесть писать; если дело происходит на кухне, я помещаю их с краю стола, а если в ванной комнате — на батарее центрального отопления; Чехов смотрит на меня с иронической улыбкой, а Толстой хмуро, насупившись, — кажется, еще минута, и обругает.
Касательно реализации моих сочинений: я до сих пор ничего не опубликовал, и, пожалуй, еще долго не опубликую. Прежде я полагал, что стоит только что-нибудь сочинить, как это неизбежно и почти немедленно будет опубликовано, но оказалось, что дело обстоит намного сложнее. Первый же свой рассказ, «Пейзаж с падением Икара», я размножил в десяти экземплярах и, разослав его в десять редакций, примерно через месяц получил десять ответов самого обидного содержания. Хотя мне по-своему было приятно, что целых десять художественных журналов, имеющих дело со знаменитостями, как-то откликнулись на мой «Пейзаж», но, с другой стороны, я был, прямо скажем, огорошен отказом и несказанно огорчен тем, что моя литературная карьера приобретала затяжной характер и что вообще этот путь, оказывается, куда путанней и тернистей, чем я с самого начала предполагал. Правда, у меня еще была та чудная надежда, что отказать мне можно исключительно за глаза, и если бы редакторы узнали, каков автор, как человек, то они вряд ли бы отказали. Поэтому свой второй рассказ «Ангелы на велосипедах» я понес сам.
Я явился в один журнал, название которого из этических соображений следует опустить, и обратился к моложавому, но уже совершенно лысому мужику — из этических же соображений назову его Сидоровым, так как он человек известный. Когда я выложил свой рассказ, этот Сидоров на меня почему-то рассерженно посмотрел и велел дожидаться письменного ответа. Но я не позволил себя надуть и недели через две снова явился сам. Тот же Сидоров мне сказал, что мой рассказ еще не прочитан, на что я ответил, что рассказ такой маленький, что его за три минуты можно прочесть; Сидоров как-то внутренне передернулся — я это точно приметил, что он как-то внутренне передернулся, — но взял себя в руки и сел читать. Только он сел читать, меня обуяло такое волнение, что я почувствовал, как мои уши набухли горячей кровью.
Когда Сидоров кончил читать мой рассказ, он откинулся в кресле и посмотрел в распахнутое окошко.
— Ну что вам сказать… — начал он как-то лениво. — Обыкновенненький вы сочинили рассказ, не талантливый и не бездарный, а так: ни богу свечка, ни черту кочерга. Это все, голубчик, от атеизма, от высшего образования и от дремучего атеизма.
Я ничего не понял, забрал свой рассказ, откланялся и ушел.
Одним словом, с реализацией моих сочинений дело с самого начала пошло туго. Но вот я что думаю: даже если я никогда ничего не опубликую, мои литературные труды не пропадут даром, за понюх табаку, так как каждую субботу и воскресенье я знаю, что такое истинное блаженство.
А потом на меня напала моя футурологическая идея. Натурально, что для ее реализации мне понадобился герой. Если бы мне понадобился просто герой, то это от судьбы была бы поблажка и знамение благосклонности, но в том-то вся и каторга, что мне понадобился не просто герой, а новый герой — я подразумеваю новое качество литературного персонажа. Поскольку я шел не от идеи к конкретному человеку, а наоборот, и моя художественная задача была в некотором роде беспрецедентной, традиционный герой не устраивал меня в технологическом отношении.
Детально о том, почему он не устраивал меня в технологическом отношении… Прежде всего традиционный герой в русской литературе — это всегда, при любых обстоятельствах замечательный человек, это подозрительно замечательный человек. Почему-то, начиная с двух первых серьезных русских писателей, Аввакума Петрова и Дениса Фонвизина, наши титаны прозы панически держались за необыкновенного человека, а Гоголь, пожалуй, судорожнее других; особенно по Акакию Акакиевичу видно, как он боялся замечательного героя, но вывел-таки замечательного героя, просто выдающуюся личность, которая взялась сказать, может быть, самые рыдательные слова, какие только знает литература: «Зачем вы меня обижаете?»
Эта неизменная и нарочитая привязанность к замечательному человеку мне не нравилась потому, что она намекала на принципиальную невозможность художественной работы с обыденным материалом. Но поскольку я, как и большинство новичков, слишком много о себе понимал, то решил приложить все мыслимые усилия, чтобы вывести именно ничем не замечательный персонаж, а впрочем, у меня и не было другого выхода, так как надежное предсказание будущего можно сделать только исходя из среднестатистического материала. Тут уж ничего не поделаешь, потому что такая выпала мне идея. Тут еще потому ничего не поделаешь, что английская литература существует из сострадания к человеку, французская литература существует для того, для чего существуют справочники и энциклопедические словари, немецкая литература существует… я не знаю, из каких видов существует немецкая литература, — русская литература существует идеи ради.
Итак, я решил, что мой герой будет дюжинный человек. И что прошлое его будет обыкновенным, то есть богатым, по-своему замечательным, но в то же время обыкновенным. Отыскать героя с прошлым таких параметров было дело нехлопотное, хлопотно было отыскать дюжинного героя; к кому на первых порах я ни присматривался, все были чем-то, да замечательны.
Сначала я остановился на нашем участковом уполномоченном. Это был уже человек в годах и, надо сказать, мало похожий на милиционера. Форма сидела на нем, как чужая, выражение лица было рассеянным, говорил он немного витиевато. В прошлом у него было все, что мне требовалось, и тем не менее пришлось забраковать эту кандидатуру, так как из переговоров с участковым уполномоченным выяснилось, что он сочиняет музыку для гитары.
Затем я некоторое время присматривался к одному невзрачному мужику, который вечно топчется у нашего винного магазина. Убив на него часа два, я выяснил, что и этот парень не так-то прост, но главное, в прошлом у него не оказалось решительно ничего, — как родился человек, так всю жизнь и прослужил на кирпичной фабрике.