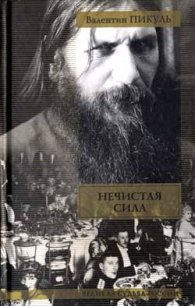Герои и антигерои Отечества (Сборник) - Чуев Феликс Иванович (читать книги онлайн без TXT) 📗
Если даже предположить, что рукописи прокламации не было и Георгий Иванов ее придумал, то легко допустить другое: Гумилев мог поделиться с этим «знакомцем» или с кем-то другим своими «несвоевременными мыслями», например, о «Гришке Зиновьеве», на совести которого, как теперь мы знаем, тысячи невинных жертв. А тот узнал об этом — все от того же «знакомца».
Существует же версия, что Г. Зиновьев сыграл особую роковую роль в судьбе Гумилева, даже вопреки защитительному воздействию Ленина, к которому с ходатайством о помиловании Гумилева обратился А. М. Горький.
А о том, что Гумилев был крайне неосторожен в своих высказываниях, имеется немало свидетельств.
Например, уже упоминавшийся нами С. Маковский рассказывает:
«Николай Степанович, бывавший всюду, где мог найти слушателей, не скрывал своих убеждений. Он самоуверенно воображал, что прямота, даже безбоязненная дерзость (а вспомним, что это был человек, вообще не знавший страха. — В. М.) — лучшая защита от подозрительности. К тому же, он был доверчив, не видел в каждом встречном соглядатая…»
И далее идет вновь уже знакомая нам информация:
«…Вероятно, к нему подослан был агент, притворившийся „другом“, и Гумилев говорил „другу“ то, что было говорить смертельно опасно. Веря в свою „звезду“, он был неосторожен».
И опять зададимся вопросом: это поведение честного человека или нет? А, следовательно, нуждается ли Гумилев в том, чтобы ему «возвращали честное имя»?
А теперь взглянем с той же меркой на тех, с кем вместе принял смерть поэт в тот трагический день августа 1921 года.
Список расстрелянных возглавлял молодой профессор-географ В. Н. Таганцев. Среди казненных 16 женщин в возрасте от двадцати до шестидесяти лет (две сестры милосердия, две студентки, четыре проходили как сообщницы в делах мужей), группа моряков, бывших офицеров, интеллигентов (как, например, профессор-юрист, проректор Петроградского университета Н. И. Лазаревский; крупный химик-технолог, сделавший значительное открытие, имевший заслуги перед русским революционным движением (входил в группу «Освобождение труда»), профессор М. М. Тихвинский — друг академика В. И. Вернадского, который пытался защитить ученого в высоких инстанциях, но тщетно).
Вот запись В. И. Вернадского, сделанная им для себя в сентябре 1942 года:
«…В. Таганцев погубил массу людей, поверив честному (разрядка моя. В. М.) слову ГГТУ (Менжинский и еще два представителя). Идея В. Н. Таганцева заключалась в том, что надо прекратить междоусобную войну, и тогда В. Н. готов объявить все, что ему известно, а ГПУ дает обещание, что они никаких репрессий не будут делать. Договор был подписан. В результате все, которые читали этот договор с В. Н. Таганцевым, были казнены… Это одно из ничем не оправданных преступлений, морально разлагающее партию».
(Вернадский ошибся: преобразование ВЧК в ГПУ произошло позже — в начале 1922 года.)
Еще несколько слов о последних днях жизни Гумилева.
Когда Николая Степановича арестовали ночью 3-го августа, поэт взял с собой в камеру самое необходимое и дорогое: Одиссею и Библию. С Гомером в походном ранце он отстаивал интересы Родины на германском фронте, с ним же принял смерть от соотечественников.
Последним из друзей, кто видел Гумилева на воле, был Владислав Ходасевич, засидевшийся у него до двух часов ночи. Той самой ночи…
«Я не знал, — писал он в очерке, в связи с пятилетием со дня гибели Гумилева, — чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему как будто бы и вообще несвойственную. Каждый раз, как я подымался уйти, Гумилев начинал упрашивать: „Посидите еще…“ Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы… Стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго — по крайней мере до девяноста лет… В его преувеличенной радости моему приходу, должно быть, было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит».
А вот текст последней записки из тюрьмы, адресованной жене:
«Не беспокойся обо мне, я чувствую себя хорошо; читаю Гомера и пишу стихи».
Как всегда, спокойный, мужественный тон.
Все, знавшие поэта близко, не сомневались, что и в последние секунды жизни Гумилев остался верен себе.
«Я не знаю подробностей его убийства, — писал в очерке-некрологе Алексей Николаевич Толстой, — но, зная Гумилева, — знаю, что, стоя у стены, он не подарил палачам даже взгляда смятения и страха».
«Если на допросе следователь умел, — писал в те же дни известный писатель Александр Амфитеатров, тоже близкий друг Гумилева, — задеть его (Гумилева. — В. М.) самолюбие, оскорбить его тоном или грубым выражением, на что эти господа великие мастера, то можно быть уверенным, что Николай Степанович тотчас же ответил ему по заслуге… И как офицер, и как путешественник, он был человек большой храбрости и присутствия духа, закаленный и в ужасах великой войны, и в диких авантюрах сказочных африканских пустынь. Ну, а в чрезвычайках строптивцам подобного закала не спускают».
Невольно вспоминаются строки из стихотворения Владимира Солоухина «Настала очередь моя»:
«Стреляли гордых, добрых, честных, чтоб, захватив, упрочить власть…»
Существует стихотворение, якобы написанное Гумилевым в тюрьме перед расстрелом. По стилю, интонации оно напоминает поэтический язык Николая Степановича. Под сомнение ставится не столько само стихотворение, сколько возможность его передачи на волю. Разве что предположить, что кто-то из заключенных смог запомнить слова и ему посчастливилось оказаться на свободе?
Вот эти строки:
Гибель Гумилева потрясла многих людей — не только близких и почитателей поэта, но и самые различные слои общества, придав имени Гумилева ореол мученика, а его творчеству — куда большую известность, чем то внимание, каким оно пользовалось при жизни автора. Однако при всей мрачной загадочности случившегося с Гумилевым, те, кому довелось общаться с поэтом, и в особенности его близким и друзьям, Николай Степанович запомнился, прежде всего, таким, как, например, Анне Андреевне Гумилевой, невестке поэта, в последний раз видевшей его за три дня до ареста:
«…бодрым, полным жизненных сил, в зените своей славы и личного счастья, всецело отдавшимся творчеству».
Такое же яркое впечатление на современников произвела его последняя, наиболее значительная в художественном отношении книга «Огненный столп», вышедшая… в дни гибели поэта.
«„Огненный столп“, — писал Георгий Иванов, — красноречивое доказательство того, как много уже было достигнуто поэтом и какие широкие возможности перед ним открывались».