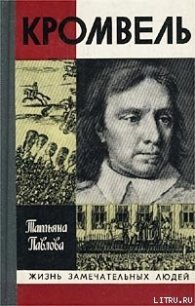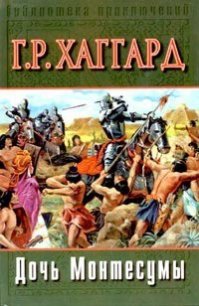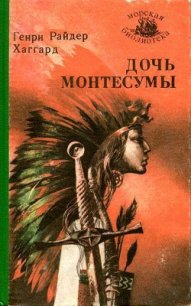Волчий зал - Мантел Хилари (читать книги онлайн .TXT) 📗
Джоан, сирота, прислуживала в доме его знакомых. Ни приданого, ни единой родной души. Он ее пожалел. Шепот в обитой деревянными панелями комнате вызывает болотных духов, тревожит мертвых в их могилах: кембриджские сумерки, сырость ползет от низин и топей, лучина горит в пустой подметенной комнате, где они сошлись. Мне оставалось только жениться, говорит доктор Кранмер, да и как мужчине без жены? Из университета пришлось уйти: семейным там не место. Джоан тоже оставила дом, где служила, и, не зная, куда ее пристроить, Кранмер поселил жену в «Дельфине» — заведении, не чужом для него, кое-какие связи — рассказчик опускает глаза — да что скрывать, таверну содержат его родные.
— Тут нечего стыдиться. «Дельфин» — приличное место.
А, так вы там бывали: и рассказчик закусывает губу.
Он изучает доктора Кранмера: его манеру перемаргивать, то, как задумчиво он прикладывает палец к подбородку, живые глаза и бледные молитвенные руки. Джоан не была, понимаете, она не была служанкой в таверне, что бы ни говорили люди, а люди судачат. Она была женой с младенцем в утробе, а он нищим богословом, готовым разделить с нею жизнь в честной бедности, только его замыслам не суждено было осуществиться. Кранмер надеялся найти место секретаря или учителя, зарабатывать на хлеб своим пером, но до этого не дошло. Подумывал уехать из Кембриджа, а возможно, из Англии, да не сложилось. До рождения ребенка Кранмер строил планы, рассчитывая на свои связи; когда Джоан умерла родами, это стало ненужным.
— Если бы ребенок выжил, не все еще было бы потеряно. Атак никто не знал, утешать меня по случаю потери жены или поздравлять с возвращением в колледж Иисуса. Я принял сан — что мне оставалось? Всю эту историю: женитьбу, нерожденного ребенка, коллеги сочли своего рода помешательством. Словно я заблудился в лесу, а теперь вернулся домой и должен вычеркнуть все из памяти.
— На свете хватает людей холодных, — замечает Кромвель. — Таковы священники, не при вас будь сказано. Разумеется, они такие из лучших побуждений.
— Это не было помешательством, не было заблуждением. Мы прожили год, и с тех пор не было дня, чтобы я не о ней думал.
Дверь открывается. Алиса принесла свечи.
— Ваша дочь?
Не желая пускаться в объяснения, он говорит:
— Это моя дорогая Алиса. Разве приносить свечи твоя забота?
Она приседает, знак почтения священнослужителю.
— Нет, но Рейф и остальные хотели узнать, о чем вы так долго разговариваете. Они спрашивают, будете ли вы диктовать письмо кардиналу. Джо не выпускает из рук нитку с иголкой.
— Скажи им, что я сам напишу, а завтра с утра отправим. Пусть Джо укладывается.
— А мы не собираемся спать. Мы гоняем борзых Грегори по дому и шумим так, что, того и гляди, мертвых разбудим.
— Теперь мне понятно, почему вы не хотите ложиться.
— Это увлекательно, — говорит Алиса. — У нас манеры судомоек, и никто не возьмет нас замуж. Если бы тетушка Мерси вела себя так, когда была девочкой, ее бы колотили по голове, пока из ушей не пошла бы кровь.
— Нам повезло, что мы не застали тех времен.
Когда дверь за Алисой закрывается, Кранмер спрашивает:
— Вы не порете детей?
— Мы пытаемся воспитывать их на собственном примере, как учит Эразм. Впрочем, мы и сами не прочь погонять собак и устроить тарарам, так что даже не знаю, что выйдет из такого воспитания.
Улыбнуться гостю или сдержать улыбку? У него есть Грегори, Алиса, Джоанна, малышка Джо, и — где-то в тени, почти незримо — бледная кроха, шпионящая для Болейнов. У него есть соколы в клетках, повинующиеся его голосу. А что есть у этого человека?
— Я думаю о королевских советниках, — говорит Кранмер. — Только вообразите, что за люди его окружают!
А еще есть кардинал, если после всего милорд от него не отвернется. А если кардинал умрет, останутся черные борзые Грегори, лежать в ногах.
— Они умны, ловки, — продолжает Кранмер, — способны добиться своего, но мне кажется — не знаю, согласитесь ли вы, — что они не понимают королевских нужд и начисто лишены совести, доброты. Любви. Милосердия.
— Это дает мне надежду на возвращение кардинала.
Кранмер всматривается в его лицо:
— Боюсь, это невозможно.
Долго сдерживаемая ярость и боль рвутся из груди.
— Нас пытаются поссорить. Убедить кардинала, что я о нем и думать забыл, забочусь только о собственной выгоде. Что я продался и каждый день хожу на поклон к Анне…
— Вы действительно каждый день видитесь с Анной…
— Но как иначе быть в курсе событий? Милорд кардинал не знает, не в силах понять, что здесь происходит.
— Возможно, вам следует поехать к нему? — тихо спрашивает Кранмер. — Ваш приезд разрушил бы все сомнения.
— Поздно. Капкан расставлен на кардинала, и я не смею двинуться с места.
Холодает, перелетные птицы тянутся к югу, а чернокрылые правоведы сбиваются на полях Линкольнз-инн и Грейз-инн к началу судебной сессии. Охотничий сезон, или, во всяком случае, сезон, когда король охотился каждый день, завершается. Что бы ни происходило, какое бы поражение или разочарование вас ни постигло, стоит выехать в поле, и все как рукой снимет. Охотник — создание бесхитростное, привычка жить одним днем делает его простодушным. Под вечер король возвращается домой: тело ломит от усталости, перед глазами чехарда листьев и неба. Нет, он не станет читать бумаги. Горести и заботы отступили и не вернутся, покуда после ужина и вина, смеха и застольных баек он вновь и вновь будет вставать на рассвете и скакать навстречу новому дню.
Но зимнего, праздного короля начинает мучить совесть. Гордость Генриха уязвлена, и он готов щедро наградить того, кто избавит его от мук.
Бледное осеннее солнце просвечивает сквозь порхающие листья. Они идут к мишеням. Королю нравится делать несколько дел одновременно: беседовать и целиться.
— Здесь мы будем наедине, — говорит Генрих, — и я открою вам свои мысли.
В действительности их окружает население небольшой деревушки — какого-нибудь Эслоктона. Королям неведомо, что значит остаться одному. Был ли Генрих наедине с собой хоть раз в жизни, пусть лишь в мечтах? «Наедине» означает без многословного и надоедливого Норфолка; без Чарльза Брэндона, которого Генрих, вспылив, прогнал прочь, велев не приближаться ко двору на расстояние в пятьдесят миль. «Наедине» означает с хранителем королевского лука, его помощниками; с королевскими камергерами — избранными, проверенными друзьями. Двое из них спят в ногах королевской кровати, если его величество не разделяет ложе с королевой; а стало быть, вот уже несколько лет.
Глядя, как Генрих натягивает тетиву, Кромвель думает, наконец-то я вижу его монаршую стать. Дома и за границей, во времена мира и войны, король стреляет из лука несколько раз в неделю, как полагается истинному англичанину. Распрямившись во весь рост, напрягая сильные мышцы рук, плеч и груди, Генрих посылает трепещущую стрелу в центр мишени. Затем опускает лук: кто-то кидается перемотать королевскую руку, кто-то предлагает стрелы на выбор, согбенный раб подает салфетку, чтобы его величество утер со лба пот, а после поднимает ее с земли. Две стрелы уходят в «молоко», и рассерженный правитель Англии прищелкивает пальцами. Господи, утишь ветер!
— С разных сторон мне советуют, — кричит король, — признать свой брак расторгнутым перед лицом христианской Европы и снова жениться, причем как можно скорее.
Кромвель ничего не кричит в ответ.
— Однако есть другие… — порыв ветра уносит конец фразы по направлению к Европе.
— Я из тех других.
— Господи Иисусе, скоро я стану евнухом! Думаете, мое терпение безгранично?
Кромвель не решается сказать, вы до сих пор женаты. До сих пор разделяете кров и двор, ваша жена по-прежнему занимает свое место по левую руку от вас. Вы уверяете кардинала, что она вам сестра, не жена, но если сегодня ветер или непрошеная слеза помешают вам поразить мишень, вы придете плакаться к Екатерине, ибо перед Анной вы не позволите себе слабости или поражения.