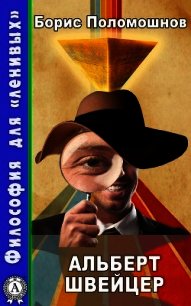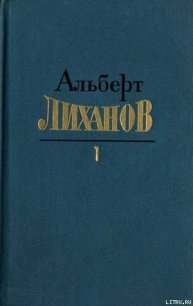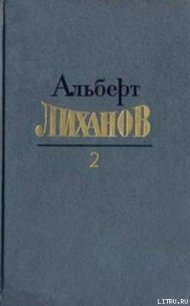Я родился в период духовного упадка человечества (Из автобиографических сочинений А Швейцера) - Швейцер Альберт (книги полностью txt) 📗
Мысль, что я продолжаю существование человека, который столь дорог моей матери, чрезвычайно занимала меня, особенно потому, что мне так много говорили о его доброте. Когда после осады Страсбурга одно время было очень трудно с молоком, он каждое утро носил свое молоко одной бедной старой женщине. После его смерти она поведала моей матери, каким образом тогда она каждое утро получала молоко.
Оглядываясь на прошлое, я могу сказать, что всегда страдал при виде тех бедствий, которые наблюдал в мире. Непринужденной детской радости жизни я, собственно, никогда не знал и думаю, что у многих детей дело обстоит так же, хотя бы внешне они и казались веселыми и беззаботными.
Особенно же удручало меня то, что так много боли и страдания приходится выносить бедным животным. Вид старого хромого коня, которого один крестьянин тащил за собой, тогда как другой подгонял его палкой - коня гнали на бойню в Кольмар, - преследовал меня неделями.
Я не мог понять - это было еще до того, как я пошел в школу, - почему я в своей вечерней молитве должен упоминать только людей. Поэтому, когда матушка, помолившись вместе со мной и поцеловав меня на сон грядущий, уходила, я тайно произносил еще одну, придуманную мной самим молитву обо всех живых существах. Вот она: "Отец Небесный, защити и благослови всякое дыхание, сохрани его от зла и позволь ему спокойно спать!"
Глубокое впечатление произвел на меня случай, происшедший, когда мне было семь или восемь лет. Генрих Бреш и я смастерили рогатки из резиновых шнуров, из них можно было стрелять маленькими камешками. Была ранняя весна, стоял великий пост. Как-то воскресным утром он предложил мне: "Давай, пойдем на Ребберг, постреляем птичек". Это предложение ужаснуло меня, но я не осмелился возразить из страха, что он меня высмеет. Так мы оказались с ним возле еще обнаженного дерева, на ветвях которого бесстрашно и весело распевали птицы, приветствуя утро. Пригнувшись, как индеец на охоте, мой спутник вложил гальку в кожанку своей рогатки и натянул ее. Повинуясь его настойчивому взгляду и мучаясь страшными угрызениями совести, я сделал то же самое, твердо обещая себе промахнуться. В этот миг сквозь солнечный свет и пение птиц до нас донесся звон церковных колоколов. Это был благовест, звонили за полчаса до главного боя. Для меня он прозвучал гласом небесным. Я отшвырнул рогатку, вспугнул птиц, чтобы спасти их от рогатки моего спутника, и побежал домой. С тех пор всякий раз, когда я слышу сквозь солнечный свет и весенние голые деревья звук колоколов великого поста, я взволнованно и благодарно вспоминаю, как во мне тогда зазвучала заповедь: "Не убий".
С того дня я научился освобождаться от страха перед людьми. В том, что затрагивало мои глубочайшие убеждения, я теперь меньше считался с мнением других, и меня уже не так смущали насмешки товарищей.
Тот путь, каким вошла в мое сердце заповедь, запрещающая нам убивать и мучить, стал величайшим переживанием моих детских лет и моей юности. Все остальное рядом с ним поблекло.
Когда я еще не ходил в школу, у нас был рыжий пес по кличке Филакс. Как и многие другие собаки, он терпеть не мог униформы и всегда бросался на почтальона. Поэтому мне было поручено при появлении почтальона удерживать Филакса, который кусался и однажды уже нападал на жандарма. Прутом я гнал его в угол двора и не выпускал оттуда, пока почтальон не уходил. До чего же гордое ощущение - укротителем зверей стоять перед рычащим и клацающим зубами псом, удерживая его ударами, когда он хочет вырваться на свободу! Но чувство гордости проходило. Когда мы потом друзьями сидели рядом, я винил себя за то, что бил его. Я знал, что мог бы удержать его в отдалении от почтальона иначе: взяв за ошейник и поглаживая. Но вот опять наступала роковая минута, и я вновь поддавался пьянящему чувству, воображая себя укротителем зверей...
На каникулах сосед доверил мне править его повозкой. Его гнедой был уже почтенного возраста и страдал одышкой. Он не мог долго бежать рысью, но, охваченный азартом бесстрашного возницы, я кнутом заставлял его ускорить бег, хотя понимал и чувствовал, что он уже устал. Мне кружила голову гордость: я правлю несущимся рысью конем. Хозяин не возражал, "чтобы не испортить мне удовольствия". Но что осталось от этого удовольствия, когда мы вернулись домой и, распрягая лошадь, я заметил то, что не видно было из повозки, - как ходуном ходят ее бока! И что пользы в том, что я смотрел в ее усталые глаза и молча молил о прощении?
Однажды - я тогда уже учился в гимназии и на рождественские каникулы приехал домой - я сидел на месте кучера в санях. Из дома соседа Лешера с лаем выскочил навстречу лошади его злой пес. Я посчитал, что имею право угостить его хорошим ударом кнута, хотя он явно бросился к саням, просто играя. Увы, я прицелился слишком хорошо и попал ему по глазам. Взвыв от боли, псина завертелась в снегу. Его жалобный вой еще долго преследовал меня. Я не мог избавиться от него неделями.
В другой раз я удил рыбу с приятелем. И ужас, охвативший меня при виде мучений проколотых крючком червяков и пойманных рыбок, которым рвали рты, освобождая их от крючка, отвратил меня от рыбной ловли. Я даже нашел в себе мужество удерживать от ужения других.
Из таких хватающих за сердце и часто постыдных переживаний у меня постепенно сложилось непоколебимое убеждение, что мы можем нести смерть и страдание другому существу только тогда, когда у нас нет иного выхода, и что мы должны испытывать ужас, заставляя страдать и убивая по неразумию. Это убеждение овладевало мною сильнее и сильнее. Я все больше убеждался в том, что мы все, в сущности, так и думаем, но только не осмеливаемся в этом признаться, боясь насмешек над нашей "сентиментальностью" и потому заглушая свой внутренний голос. И я поклялся, что никогда не позволю себе стать бесчувственным и никогда не убоюсь упрека в сентиментальности.
В Мюльхаузене я жил у дядюшки Луи и тети Софи, бездетной пожилой пары. Дядя Луи был сводным братом моего деда с отцовской стороны и моим крестным. В этом своем качестве он и предложил взять меня к себе на все время учебы в гимназии совершенно бесплатно. Это дало возможность моему отцу продолжить мое образование. Иначе у него не было бы для этого средств. Все, что сделали для меня дядя Луи и тетя Софи, взяв меня к себе, я понял только позднее. Вначале же я чувствовал лишь строгость муштры, в тиски которой попал.
Мой дядя был директором ведомства начальных школ в Мюльхаузене и жил в довольно мрачной служебной квартире при центральной школе возле Mарияхильфкирхе.
Ранее, около 1855 года, если не ошибаюсь, он долгое время жил в Неаполе. Там он руководил немецко-французской школой, которую тогда сообща содержали французская и немецкая колонии.
Жизнь в доме дяди была расписана до мелочей. После обеда я должен был упражняться на фортепьяно, пока не приходило время вновь отправляться в школу. Покончив вечером с домашними заданиями, я опять усаживался за фортепьяно. "Ты даже не представляешь, как тебе пригодится в жизни музыка", - говорила обычно тетя, погоняя меня к инструменту. Конечно, она не могла и предположить, что спустя много лет именно музыка поможет мне собрать средства для создания госпиталя в тропическом лесу. Только послеобеденное время воскресений обычно посвящалось отдыху. В это время мы совершали прогулки. После этого мне было позволено до десяти часов вечера удовлетворять свою страсть к чтению.
Страсть эта не знала границ. Она преследует меня еще и сейчас. Я не в состоянии выпустить книгу из рук, если начал ее читать, и способен провести за чтением всю ночь. Или уж в крайнем случае я должен пролистать ее до конца. Если она мне нравится, то я тут же перечитываю ее два или три раза подряд.
Мою тетю такое "проглатывание" книг, как она это называла, приводило в ужас. Сама она также питала страсть к чтению, но несколько иного рода. Как бывшая учительница, она читала, чтобы, как она говорила, "наслаждаться стилем, который важнее всего остального". Три часа каждый вечер она вязала на спицах или крючком, положив перед собой раскрытую книгу, час перед ужином, два - после него. Если стиль был очень хорош, то движение спиц замедлялось, как бег лошадей, когда кучер перестает обращать на них внимание. Иногда у нее вырывалось: "О, этот Доде! Ах, этот Торье! Какой стиль! О, какие описания у этого Виктора Гюго!"