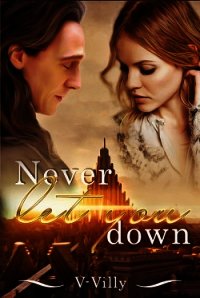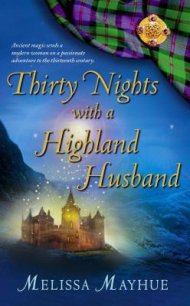Жемчужина Санкт-Петербурга - Фернивалл (Фурнивэлл) Кейт (мир книг .txt) 📗
Несмотря на то что мать имела множество знакомых и вела светскую жизнь, Валентине порой казалось, что Елизавета Иванова очень одинока. Когда она обнимала дочь, что случалось нечасто (они вообще редко прикасались друг к другу), девушку поражало, какое у матери теплое тело. Собственная кожа была холодной как мрамор.
Даже сейчас пышные золотистые волосы матери были элегантно собраны, и она сидела в своем панцире из французского шелка и кружев, с каркасом из китового уса и аметистовой брошью, идеально выпрямив спину и расправив плечи. В эту минуту Валентине показалось, что матери давно известно, насколько опасен этот мир, и именно поэтому она всегда во всеоружии и всегда напряжена.
Полиция прочесывала поля и лес, но пока никаких людей с винтовками обнаружено не было.
— Мама, — мягко прошептала Валентина, — если бы революционеры не задержали меня в лесу, я бы вернулась домой задолго до того, как Катя проснулась, мы бы с ней отправились купаться, и она не пошла бы в папин кабинет…
Елизавета Иванова обернулась и внимательно посмотрела на дочь. Ноздри ее дрожали, а глаза словно обесцветились, как будто их обычную густую голубизну смыло невыплаканными слезами.
— Не вини себя, Валентина. — Она взяла дочь за руку.
— А папа думает, что это я виновата.
— Твой отец очень зол. Ему нужно когото обвинять.
— Он мог бы направить свой гнев на тех людей из леса.
Елизавета Иванова глубоко вздохнула.
— Ах, — печально промолвила она, — это было бы слишком просто. Прояви терпение и будь с ним сдержаннее, дорогая. У него столько забот, ты и не представляешь.
Валентина вздрогнула. Отныне, она в этом не сомневалась, жизнь не будет такой, как прежде.
В спальне было душно. Что они делали с сестрой? Хотели, чтобы она задохнулась? Несмотря на летнюю жару, в камине горел огонь. Шторы были задернуты, и тусклый свет отбрасывал тени, которые Валентине показались похожими на какието таинственные фигуры во мраке. Войти ей позволили всего на пять минут, не больше, и то только потому, что она упрашивала. Девушка сразу же бросилась к кровати, присела рядом, уткнулась локтями в шелковое стеганое одеяло и опустила голову на руку так, чтобы ее глаза пришлись вровень с глазами сестры.
— Катя, — прошептала она. — Катя, прости меня.
При виде головы, покоящейся на подушке, ее сердце сжалось. Это была Катя, но такая, какой она должна была бы стать через пятьдесят лет. Кожа и волосы — серые и безжизненные, губы сжаты в тоненькую линию, словно от боли. Валентина нежно поцеловала сестру в щеку и почувствовала неприятный нечистый запах. Однажды, когда они были маленькими, садовник раскопал под сараем крысиное гнездо. Тогда они с Катей разинув рот наблюдали за тем, как маленькие, покрытые серой шерстью создания пищали, спасая свою жизнь. Они издавали отвратительный мускусный запах, который надолго въелся в ноздри Валентины. Сейчас так же пахла кожа Кати.
Она не знала, спала ли Катя, была ли без сознания, слышала ли ее слова, но сестра не могла ответить. Говорили, будто доктор дал ей чтото. Интересно, что? Морфий? Как могло случиться, что внутри этого маленького старушечьего тела скрывается ее сестра, милая светловолосая девочка, всегда такая веселая и непоседливая? Валентина неуверенно притронулась к серой от пыли руке, лежащей на покрывале, и та показалась ей совершенно незнакомой, твердой и грубой. Куда подевались гладкие, как атлас, нежные пальчики, которые так любили плескаться в бухте и плести из ивовых веток домики?
Крупная слеза упала на покрытую пылью руку, и Валентина вздрогнула. Она и не думала, что плачет. Прижавшись щекой к горячей руке Кати, она почувствовала исходящий от сестры жар, как будто под этой кожей горела печка.
— Я виновата в том, что все это случилось, — тихо произнесла она, не в силах держать в себе это признание. Потом, отерев слезы, она сказала уже в полный голос: — Катя, ты слышишь меня? Это я, Валя.
Ответа не последовало.
Она поцеловала грязные волосы сестры.
— Ты меня слышишь?
Тишина.
— Пожалуйста, Катя, не молчи.
Золотистосерые ресницы дрогнули.
— Катя!
В одном из глаз показалась голубая щелочка.
Валентина подалась к сестре.
— Привет, любимая.
Щелочка чутьчуть расширилась. Губы Кати шевельнулись, но беззвучно. Валентина поднесла ухо к самому рту сестры и почувствовала слабое дыхание.
— Что, милая? Тебе больно? Доктор сказал…
— Мне страшно.
У Валентины сжалось горло, она чуть не задохнулась от нахлынувшего чувства жалости. Она стала целовать мягкую щеку, снова и снова, пока легкие сестры вновь не наполнились воздухом.
— Не бойся, Катя. Я здесь. С тобой больше ничего не случится. Я буду рядом, всегда, до конца наших жизней. — Валентина сжала маленькие пальцы и увидела слабое движение в уголке тугих, истерзанных губ сестры. Улыбка.
— Поклянись, — выдохнула Катя.
— Клянусь. Жизнью своей.
Глаза Кати медленно закрылись, и голубая щелочка исчезла. Но улыбка на губах осталась, и Валентина не отпускала ладонь Кати, пока ее не увели из комнаты.
3
Санкт-Петербург, декабрь 1910 года
— Девочки, mesdemoiselles, сегодня памятный день для нашего института. Сегодня нам оказана высокая честь. Я надеюсь, что каждая из вас покажет себя с лучшей стороны. Сегодня вы должны сверкать ярче, чем…
Неожиданно начальница института замолчала. Ее аккуратные коричневые брови вскинулись в отвращении. Девушки затаили дыхание. На кого из несчастных падет гнев? В мрачном темном платье, с брошьюкамеей и безукоризненной осанкой, мадам Петрова, точно генерал перед строем солдат, прохаживалась между скамьями в большом зале Екатерининского института, подвергая каждую из воспитанниц самому строгому осмотру.
— Mademoiselle Надежда, — твердым как камень голосом произнесла она.
У Валентины все похолодело внутри от жалости к подруге, которая поставила чернильную кляксу на белоснежный передник.
— Сядьте прямо, расправьте плечи. То, что вы сидите на заднем ряду, не означает, что вы можете сутулиться. Вы хотите, чтобы к вашей спине привязали ручку метлы?
— Нет, madame. — Надя расправила плечи, но руки ее все так же прикрывали запачканный фартук.
— Mademoiselle Александра, уберите локон со щеки.
Мадам Петрова поплыла дальше по проходу.
— Mademoiselle Эмилия, поставьте ноги как следует, вы не лошадь. Mademoiselle Валентина, немедленно прекратите стучать пальцами!
Валентина вспыхнула и посмотрела на свои пальцы. Она неосознанно барабанила, чтобы согреть руку, ведь замерзшими пальцами особенно не поиграешь. И все же она послушно сложила руки на коленях. Сердце ее билось учащенно. Так было всегда перед выступлением, хотя она повторяла ноктюрн, наверное, тысячу раз, изо дня в день, пока он не стал преследовать ее в снах и постоянно звучать в ушах, как визг напуганных взрывом лошадей, который и по сей день не покидал ее. С того дня девушка ни разу не садилась на лошадь и не собиралась этого делать впредь, и все же этот звук стоял у нее в голове, как бы сильно она ни стучала по клавишам.
— Mademoiselle Валентина.
— Да, madame.
— Помните, что сегодня вы будете играть не для когонибудь, а для самого императора.
— Да, madame.
Сегодня она сыграет шопеновский ноктюрн мибемоль мажор лучше, чем когдалибо.
Йенс Фриис посмотрел на большие часы на стене. День, словно замерзающий в степи путник, двигался мучительно медленно, и инженера давно уже тянуло на зевоту.
Он вытянул ноги и поменял положение. Бесконечные стихотворения и песни уже порядком наскучили ему и начали выводить из себя не меньше, чем неудобные кресла, совершенно не приспособленные для таких, как он, — людей, у которых ноги, как у жирафа. Еще больше раздражало то, что графиня Серова притащила его на этот скучный школьный концерт именно тогда, когда у него совершенно не было времени — сегодня утром привезли чертежи нового узла, и ему нужно было как можно скорее приступить к их изучению. И вообще, в зале было холодно, как в могиле. Как только эти несчастные девочки переносят такой холод? На расставленных вдоль стен скамьях ряды учениц в темных платьях с белыми пелеринками и передниками… Институтки сидели прямо и неподвижно, словно какието снежные изваяния.