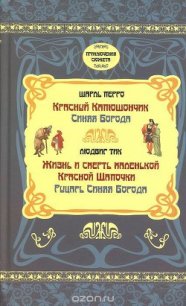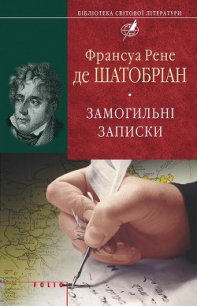Русачки (Les Russkoffs) - Каванна Франсуа (книги без регистрации бесплатно полностью TXT) 📗
Самые первые контингенты мяса побежденных, доставляемого живьем, состояли исключительно из военнопленных. Сначала поляки, проглоченные в два счета, затем, после июня сорокового, сразу и массой, — французы, племенного французского поголовья: два миллиона военнопленных, почти полный состав республиканских армий. Затем — бельгийцы, голландцы, датчане…
Несколько сталагов(лагерей для военнопленных) впопыхах смастерили вокруг Берлина. В них черпалась рабочая сила для всего, что непосредственно не касалось военного производства. Бригады мусорщиков, подметальщиков, ковырятелей бомбоубежищ, разгрузчиков вагонов, всяческих разнорабочих шастали без конвоя по улицам Берлина, и, наверное, это зрелище согревало немецкие сердца, — целые стада падших вояк в потрепанных формах плелись, обмотанные в шарфы и горные шапочки, — вещмешок болтается на боку, гигантские намазанные литеры «KG» полосуют спину позором. Ребятишки разыгрывали их расстрелы: ра-та-та-та-та-та. Два длинных жестких рога пилотки французского полицейского вызывали насмешки уличных пацанов. Позднее появились эшелоны советских военнопленных, но этих-то им не показывали. Мне довелось наблюдать их однажды. Было это на товарной станции, не помню уж на какой, наш «отряд по щебню» занимался в тот день разгрузкой кирпича, как вдруг один кореш говорит мне:
— Глянь-ка! Кто это, по-твоему?
Я смотрю. Пачка мужиков, огромных, образующих точно карре, шагает в ногу, медленным, тяжелым, неторопливым, неотразимым шагом. Держатся они прямо, застывший взгляд далеко впереди. Марширующие статуи, каменные роботы. Одеты они в невероятные лохмотья, обрывки униформы странного цвета, даже нельзя сказать, какого, то ли сиреневого, то ли серого, то ли бежевого, в общем, странного цвета, где было всего этого понемногу, цвета грустного и нежного. Крошечная пилотка, почти в стиле фрицев, с прорезью посередке, но гораздо меньше, прилепилась сбоку к черепу, постриженному под ноль, как слизняк к дыне. Конвоиры со скотскими рожами — автоматы наперевес — орали на них без устали. Сделали они нам знак, чтобы мы отошли в сторону — los, los, — тыча автоматы нам в брюхо, потому что мы не достаточно быстро повиновались.
Один из наших сказал:
— Во дает, мужики! Советские!
Он не сказал: «Русские», он сказал: «Советские». Машинально. Ведь это слово так никогда не употребляется. Обычно говорят: «русачки», «русские». Фрицы, они говорят: «Иваны». Но здесь было именно то, что нужно, он произнес это слово инстинктивно. Как сейчас их помню: в длиннополых шинелях сиренево-бежевого цвета, массивных, немых, спаянных в один блок. Недосягаемых. Были ли они и в самом деле такими? Во всяком случае, такими я их запомнил тогда, когда получил их наотмашь, в той железнодорожной бескрайности, под тем низким небом, по которому плелись пудовые облака.
Последними пришли в Берлин военнопленные итальянцы, после перемирия, подписанного генералом Бадольо {97} , осенью сорок третьего. Эти-то хлебнули горя побольше других, даже больше, чем русские, по крайней мере, в течение первых месяцев. Утробная ненависть немца ко всему чернявому, словоохотливому и, стало быть, само собой, хвастливому, хитрому и трусливому, в этом и подтвердилась. Фюрер заставил их любить итальянцев, ну что же, они попробовали, фюрер знал, что делал, фюрер всегда прав, на то он и фюрер. Фюрера теперь тошнило от этих мандолиночников, он вопил, что всегда испытывал к ним подозрение, к этим специалистам по части кинжалом в спину, он обрекал их на отвращение гордого немецкого народа, который, впрочем, только быстрее выиграет войну, избавившись от союзника, которого всегда приходилось выручать, чтобы не оказаться наголову разбитым всякий раз, когда тот натыкался на албанцев, греков, югославов и другие народности…
А кроме того, поскольку война затянулась и постепенно распространяется на всю планету, потребности в рабочей силе сделались фантастическими. Стали соскребывать завоеванные земли. На Западе сохранялись приличия, была хотя бы видимость коллаборационизма, на который шли с поспешным подобострастием марионетки в Виши и в других местах. Сперва был призыв добровольцев, «чтобы прийти на смену бедным военнопленным», а потом, из-за недостаточного набора пошла откровенная принудиловка, трудовая повинность (S.T.O.), массовое переселение при активном согласии местных подгузых властей, что позволяло облачить все это в законоподобные формы. Гордые феодалы войны, провозглашая с вершины своих страшенных фуражек, что впереди победа или смерть, готовили себе на всякий случай почтенный выход со сцены в сторону англо-америкашек, поэтому в общем-то и сохранялась видимость.
А на Востоке все было гораздо проще. Прямее. Греби все, что есть. Без фуфлового туземного правительства, которое приходилось щадить для вида. Земля завоевания — мясо для горя. Сапогом под зад. После первых серьезных поражений и грандиозного отката вермахтак Берлину стали прибывать бесконечные эшелоны, в которые мужика запихивали целыми губерниями. Ничего за собой не оставлять! Выжженная земля. Военная необходимость, пожалуйста, но как же они любят это, вояки! У немцев даже есть слово для этого: Schadenfreude, — радость разрушения. Армия перед окончательным разгромом может всегда утешаться этой последней радостью. Красная Армия уже делала это двумя годами ранее. Халтурная работа, выходит, раз вермахтеще находит, что разрушать. Он сжигает дома, закалывает скот, спиливает фруктовые деревья, депортирует мужиков, которые еще могут вкалывать. Методически. Обучают этому в военных школах. Кандидат в офицеры Такой-то выходит к доске и перечисляет перед другими курсантами все, что обязательно следует разрушить. Не забыть отравить колодцы, — это в учебниках. Не хватает крысиной отравы, — сбрасывать туда трупы. Заставлять тифозных насрать в них…
Я видел, как в разгар зимы привозили целыми платформами, уже неделями болтавшимися по запасным путям и тупиковым веткам, украинцев или белорусов, зажатых в кучи, чтобы не замерзнуть живыми, привязанных друг к другу тряпками, чтобы не свалиться на шпалы, если заснешь. Это были, в основном, женщины всех возрастов, но никогда среди них не было слишком старых. Куда же девали бабусь? А дедусь? Старых мужиков тоже на этих платформах не было. Дети зато были, даже совсем малые. Все это — зеленое от мороза, изголодавшееся, ошеломленное ударами и окриками, не знающее, куда их везут, может, на бойню, подгоняемые — los, los — ударом приклада под ребра, давай, сходить, runtersteigen! Мертвых оставьте здесь, ими займутся, los, los, schneller, schneller, Mensch! Смотрел я на это издали, подходить было запрещено, колючка и автоматы, их уводили пешком, в какой-то далекий загородный лагерь, без грузовиков, без бензина, — все для фронта, мясо бедных — это единственное сырье, которым Рейх еще располагал в большом количестве.
Иногда целый поезд S-Bahn реквизировался для транспортировки прибывшего груза, но тогда штатским доступ к станции был запрещен. К стенкам вагонов прибиты таблички: «Sonderfahrt» (особый состав).
Бельгийцы нам разъясняют, что русские и украинцы здесь по своей воле, что они предпочитают плен большевизму, видите ли, бегут перед Красной Армией потому, что коммунизм, они-то, поверьте нам, знают, что это такое, поэтому-то и поняли, так вот, а жизнь, которая у них здесь, с пинками и поджопниками, и все такое, ну что же, — так это рай по сравнению с тем, что там, так вот, и тогда, конечно, они и выбрали ту сторону бутерброда, где хоть маргарин намазан!
Бельгийцы, мы быстро поняли, водятся двух сортов: валлоны и фламандцы. Переводчики (Dolmetscher) — это всегда фламандцы. Потому что их родной язык близок к немецкому, да впрочем многие из них учили немецкий, хотя бы чтобы досаждать своему королю, который заставлял их в школе учить французский. Выходит, они говорят на обоих. Особенно в самом начале войны у них была склонность чувствовать, что они согласны с теорией превосходства высокого белокурого арийца… В общем, ладно, так или иначе остерегаемся обсуждать политику в их присутствии, не слишком уж ворчать на власти заводские или лагерные. Но странно зато, что голландцы, эти массивные глыбы белых и розовых мышц, считаются нами совсем бесхитростными.