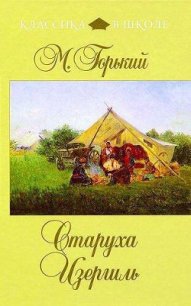В людях - Горький Максим (читаем книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Ужинали вяло, без обычного шума и говора, как будто со всеми случилось нечто важное, о чем надо упорно подумать. А после ужина, когда все улеглись спать, Жихарев сказал мне, вынув книгу:
- Ну-ка, еще раз прочитай это! Пореже, не торопись...
Несколько человек молча встали с постелей, подошли к столу и уселись вокруг него раздетые, поджимая ноги.
И снова, когда я кончил читать, Жихарев сказал, постукивая пальцами по столу:
- Это - житие! Ах, Демон, Демон... вот как, брат, а?
Ситанов качнулся через мое плечо, прочитал что-то и засмеялся,говоря:
- Спишу себе в тетрадь...
Жихарев встал и понес книгу к своему столу, но остановился и вдруг стал говорить обиженно, вздрагивающим голосом:
- Живем, как слепые щенята, что к чему - не знаем, ни богу, ни демону не надобны! Какие мы рабы господа? Иов - раб, а господь сам говорил с ним! С Моисеем тоже. Моисею он даже имя дал: Мой-сей, значит - богов человек. А мы - чьи?..
Запер книгу и стал одеваться, спросив Ситанова:
- Идешь в трактир?
- Я к своей пойду,- тихо ответил Ситанов.
Когда они ушли, я лег у двери на полу, рядом с Павлом Одинцовым. Он долго возился, сопел и вдруг тихонько заплакал.
- Ты что?
- Жалко мне всех до смерти,- сказал он,- я ведь четвертый год с ними живу, всех знаю...
Мне тоже было жалко этих людей; мы долго не спали, шёпотом беседуя о них, находя в каждом добрые хорошие черты и во всех что-то, что еще более усугубляло нашу ребячью жалость.
Я очень дружно жил с Павлом Одинцовым; впоследствии из него выработался хороший мастер, но его ненадолго хватило, к тридцати годам он начал дико пить, потом я встретил его на Хитровом рынке в Москве босяком и недавно слышал, что он умер в тифе. Жутко вспомнить, сколько хороших людей бестолково погибли на моем веку! Все люди изнашиваются и - погибают, это естественно; но нигде они не изнашиваются так страшно быстро, так бессмысленно, как у нас, на Руси...
Тогда он был круглоголовым мальчонком, года на два старше меня, бойкий, умненький и честный, он был даровит: хорошо рисовал птиц, кошек и собак и удивительно ловко делал карикатуры на мастеров, всегда изображая их пернатыми Ситанова - печальным куликом на одной ноге, Жихарева - петухом, с оторванным гребнем, без перьев на темени, больного Давидова - жуткой пигалицей. Но всего лучше ему удавался старый чеканщик Гоголев, в виде летучей мыши с большими ушами, ироническим носом и маленькими ножками о шести когтях каждая. С круглого темного лица смотрели белые кружки глаз, зрачки были похожи не зерна чечевицы и стояли поперек глаз,- это давало лицу живое и очень гнусное выражение.
Мастера не обижались, когда Павел показывал карикатуры, но карикатура Гоголева у всех вызвала неприятное впечатление, и художнику строго советовали.
- Ты лучше порви-ка, а то старик увидит, пришибет тебя!
Грязный и гнилой, вечно пьяный, старик был назойливо благочестив, неугасимо зол и ябедничал на всю мастерскую приказчику, которого хозяйка собиралась женить на своей племяннице и который поэтому уже чувствовал себя хозяином всего дома и людей. Мастерская ненавидела его, но боялась, поэтому боялась и Гоголева.
Павел неистово и всячески изводил чеканщика, точно поставил целью своей не давать Гоголеву ни минуты покоя. Я тоже посильно помогал ему в этом, мастерская забавлялась нашими выходками, почти всегда безжалостно грубыми, но предупреждала нас:
- Попадет вам, ребята! Вышибет вас Кузька-жучок!
Кузька-жучок - это прозвище приказчика, данное ему мастерской.
Предостережения не пугали нас, мы раскрашивали сонному чеканщику лицо; однажды, когда он спал пьяный, вызолотили ему нос, он суток трое не мог вывести золото из рытвин губчатого носа. Но каждый раз, когда нам удавалось разозлить старика, я вспоминал пароход, маленького вятского солдата, и в душе у меня становилось мутно. Несмотря на возраст, Гоголев был все-таки так силен, что часто избивал нас, нападая врасплох; изобьет, а потом пожалуется хозяйке.
Она - тоже пьяненькая каждый день и потому всегда добрая, веселая старалась испугать нас, стучала опухшими руками по столу и кричала:
- Опять вы, беси, озорничаете? Он - старенький, его уважать надо! Кто это ему в рюмку вместо вина - фотогену налил?
- Это мы...
Хозяйка удивлялась:
- А, батюшки, да они еще и сознаются! А, окаянные... Стариков уважать надо!
Она выгоняла нас вон, а вечером жаловалась приказчику, и тот говорил мне сердито:
- Как же это ты: книжки читаешь, даже священное писание, и - такое озорство, а? Гляди, брат!
Хозяйка была одинока и трогательно жалка; бывало, напьется сладких наливок, сядет у окна и поет:
Никто меня не пожалеёт,
И никому меня не жаль,
Никто тоски моёй не знаёт,
Кому скажу мою печаль!
И, всхлипывая, тянет старческим дрожащим голосом:
- Ю-у-у...
Однажды я видел, как она, взяв в руки горшок топленого молока, подошла к лестнице, но вдруг ноги ее подогнулись, она села и поехала вниз по лестнице, грузно шлепаясь со ступеньки на ступеньку и не выпуская горшка из рук. Молоко выплескивалось на платье ей, а она, вытянув руки, сердито кричала горшку:
- Что ты, лешой? Куда ты?
Не толстая, но мягкая до дряблости, она была похожа на старую кошку, которая уже не может ловить мышей, а, отягченная сытостью, только мурлычет, сладко вспоминая о своих победах и удовольствиях.
- Вот,- говорил Ситанов, задумчиво хмурясь,- было большое дело, хорошая мастерская, трудился над этим делом умный человек, а теперь всё хинью идет, всё в Кузькины лапы направилось! Работали-работали, а всё на чужого дядю! Подумаешь об этом, и вдруг в башке лопнет какая-то пружинка ничего не хочется, наплевать бы на всю работу да лечь на крышу и лежать целое лето, глядя в небо...
Павел Одинцов тоже усвоил эти мысли Ситанова и, раскуривая папиросу приемами взрослого, философствовал о боге, о пьянстве, женщинах и о том, что всякая работа исчезает, одни что-то делают, а другие разрушают сотворенное, не ценя и не понимая его.
В такие минуты его острое, милое лицо морщилось, старело, он садился на постель на полу, обняв колени, и подолгу смотрел в голубые квадраты окон, на крышу сарая, притиснутого сугробами снега, на звезды зимнего неба.
Мастера храпят, мычат во сне, кто-то бредит, захлебываясь словами, на полатях выкашливает остатки своей жизни Давидов. В углу, телом к телу, валяются окованные сном и хмелем "рабы божий" Капендюхин, Сорокин, Першин; со стен смотрят иконы без лиц, без рук и ног. Душит густой запах олифы, тухлых яиц, грязи, перекисшей в щелях пола.
- До чего же мне жалко всех! - шепчет Павел.- Господи!
Эта жалость к людям и меня всё более беспокоит. Нам обоим, как я сказал уже, все мастера казались хорошими людьми, а жизнь - была плоха, недостойна их, невыносимо скучна. В дни зимних вьюг, когда все на земле дома, деревья - тряслось, выло, плакало и великопостно звонили унылые колокола, скука вливалась в мастерскую волною, тяжкой, как свинец, давила людей, умерщвляя в них всё живое, вытаскивая в кабак, к женщинам, которые служили таким же средством забыться, как водка.
В такие вечера - книги не помогали, и тогда мы с Павлом старались развлечь людей своими средствами: мазали рожи себе сажей, красками, украшались пенькой и, разыгрывая разные комедии, сочиненные нами, героически боролись со скукой, заставляя людей смеяться. Вспомнив "Предание о том, как солдат спас Петра Великого", я изложил эту книжку в разговорной форме, мы влезали на полати к Давидову и лицедействовали там, весело срубая головы воображаемым шведам; публика - хохотала.
Ей особенно нравилась легенда о китайском чёрте Цинги Ю-Тонге; Пашка изображал несчастного чёрта, которому вздумалось сделать доброе дело, а я всё остальное: людей обоего пола, предметы, доброго духа и даже камень, на котором отдыхал китайский чёрт в великом унынии после каждой из своих безуспешных попыток сотворить добро.