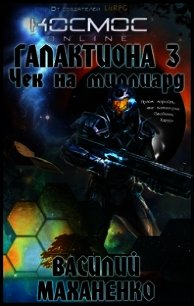Василий Блюхер. Книга 1 - Гарин Фабиан Абрамович (читать книги полностью без сокращений бесплатно .txt) 📗
— Не верю.
— Знала бы, как я тебя люблю, — послушалась, жить одному не мило, но хочу быть не полюбовником, а мужем тебе и отцом наших детей.
Груня, дорезав хлеб, застыла с ножом у груди.
— Сбрешешь, — сказала она решительно и грозно, — зарежу тебя и себя.
— Режь, Грунечка, а сейчас слушай меня.
— Как же я до Троицка доберусь?
— Завтра на зорьке вернусь за тобой и коня приведу.
Савва крепко сжал ее в объятиях, почувствовав тепло, от которого трудно было оторваться. Груня, припав к плечу Саввы, беззвучно шептала ласковые слова.
На другой день Коробейников вернулся. Груня встретила его холодно, словно накануне никакого уговора не было.
— Собирайся! — сухо предложил Савва.
Она села на сундук, скрестив руки на груди, и уставилась в одну точку. По выражению ее лица Савва догадался, что она сейчас обдумывает важную задачу, от которой зависит вся ее жизнь, и решил ей помочь.
— Полюбовно с тобой обсудим, — сказал он, опасаясь задеть ее неосторожным словом, — видно, сама судьба меня сюда послала, чтобы нам спароваться. — Савва снял с головы ушанку, расстегнул шинель, гимнастерку и сбросил с шеи нательный крестик на черной тесемке. — На вот, надень! Перед богом клянусь, что ты мне жена.
Груня подняла свои глаза на Савву — тот оробел перед ее независимым взглядом, в котором были усмешка и презрение.
— Ты свой крестик к сбруе прицепи, мне он так нужен, как казаку юбка. Я неверующая, а человека вижу сквозь стеклышко. Клялся ты не от сердца, совесть принудила, а такой ты мне не нужен.
Коробейников оглядел ее с головы до ног. Под густыми бровями синели смелые и строгие глаза, руки от работы большие, а под кофточкой, туго облегавшей талию, поднималась упругая грудь.
— Грунечка, — взмолился он, — не мучь меня. Да я согласен хоть сейчас…
— Езжай до Николая. После боя вернешься — погуторим, а сейчас — уходи. — Она тяжело вздохнула и повторила: — Уходи!
Коробейников медленно поплелся к двери, держа в руках свой нательный крестик.
Не обернувшись, он вышел на улицу, с трудом сел на коня и ускакал.
Весна ворвалась дружно. Из бурой земли, освободившейся от снега, выглянула зелень травы и разлеглась необозримым ковром. Вот-вот она подсохнет и вспыхнут в степи весенние палы. Там, где земля обуглится и почернеет, неприхотливый суслик, почуяв горький смрад, обежит ее сторонкой, только орел, размашисто распластав крылья, пролетит, закрывая от солнца плешивые островки.
Под Троицком в неодетых лесах от запушивших сережек, казалось, уже тянуло запахом грибов и слегка подсоленным укропом, зато в самом Троицке со всех дворов несся запах конского навоза — в городе собралось множество конных отрядов.
Блюхеру доложили, что из Смеловской, Воронинской и Нижне-Озерковской станиц прибыли двести пятьдесят казаков служить советской власти, но сперва они заявили: «Подайте нам Блюхера».
Блюхер вышел в своей неизменной кожаной тужурке.
— Об чем спрашивать будете? — спросил он громким голосом.
Казак с каштановой бородой и в старой фуражке с высоко поднятым верхом хриплым и прокуренным голосом сказал:
— Порешили мы служить Советам, но только хотим доподлинно знать, не свояк ли Ленин ерманскому императору? Ежели так, то служить нам нет резону.
Блюхер лукаво улыбнулся, а потом прыснул со смеху, а за ним Шарапов, которого он привел с собой. Казаки посмотрели на них и сами стали чуть посмеиваться.
— Вы у него спросите, — показал он пальцем на Шарапова.
Семен Абрамович пожевал губами, лихо заломил свою фуражку и сказал:
— Казаки! В кровях родился Ленин. Сам он симбирской, жандармы мытарили его по тюрьмам. Про то, что он свояк ерманскому императору, так это дутовская побасенка, потому атаману выгодно его в грязь затоптать.
— Все понятно, — быстро решил каштановый казак. — Мы тебе верим. В какую сотню кому идти?
После беседы с казаками Шарапов подошел к Блюхеру и сказал:
— Порядок надо навести, Василий Константинович, иначе перебьем друг друга.
— Ссоритесь?
— Один другому в зубы даст — так разве это ссора? Привычное дело. Я про другое. Вот как в поиск идем — неразбериха случится.
— Ну какая?
— Мы казаки, и встречные — казаки. Мы без погон и встречные тако ж. А может, это дутовцы? Пока разберемся — перебьем друг друга. Вот я, к примеру, сотник и повстречал разъезд, а рази я могу знать, наш он или нет?
— Чего ты хочешь, Семен Абрамыч?
— Хочу, чтобы приметный знак был.
— Какой?
— Ну, значитца, встретились, к примеру, мы с тобой. Я левой рукой фуражку снял, махнул три раза в сторону, а правая у меня вытянута по плечу. Спрашиваю тебя: «Кто такие?» — «С Урала». — «От кого?» А ты отвечаешь: «От дедушки с бородой». Значитца, мы одного толку. Но знать должны только сотники да командиры эскадронов.
— Эх, Семен Абрамыч, — шутливо вздохнул Блюхер. — Умней ты любого полковника, а ходу тебе в старой армии не давали. Обязательно введу твой приметный знак.
Предложение Шарапова Блюхер принял серьезно во внимание и в тот же день сообщил об этом командному составу казачьих сотен. Томину, как начальнику гарнизона города, было поручено согласовать действия отрядов.
— Где Груня? — спросил Томин у возвратившегося Коробейникова.
— Не поехала.
— Это почему же?
— Наотрез отказалась, не верит в мою любовь.
— Сам расхлебывай, я Груне не родитель.
Коробейников отвернулся. Хотелось ему рассказать обо всем тому, кто понял бы его. «Филькину поведаю — засмеет, — размышлял он. — Василию не до меня, он теперь главком». Слезы душили его, руки опускались. «Что мне до войны? Надоела она горше редьки».
А Троицк шумел. На улицах полно народу и бойцов. Тут и смех и озорная брань, шутки и споры. Кто спешит с пакетом, кто коня ведет в кузню подковать, кто песню заводит под гармошку.
В местной типографии наборщик Шамшурин быстро нанизывал на верстатку строку за строкой, набирая воззвание к оренбургскому казачеству. Воззвание краткое, но выразительное:
«К вам, братья, наше слово! Мы говорим, что не должно быть на земном шаре ни бедного, ни богатого, ни барина, ни мужика. Если вы не с нами, то против нас. Докажите, казаки, на деле, что вы за трудящуюся бедноту. Ловите Дутова, ловите дутовцев, всю бежавшую к ним сволочь и приведите к нам для справедливого народного суда. Иначе мы поймаем их и на пути сметем все живое, но добудем этих палачей, изменников народа, живыми или мертвыми».
Отряд братьев Кашириных не мог соперничать по численности с другими отрядами, зато дисциплина в нем была поистине железная.
Енборисов получил в свое распоряжение сотню. Казаки этой сотни в первое время боялись его, ни о чем не говорили с Кашириным, опасаясь навлечь на себя гнев Енборисова. Разлагающее влияние бывшего хорунжего они приняли сперва с опаской, потом с охотой.
— Это он для виду лает, а знает, что казак без бабы и водки не проживет, — говорили они между собой. — Правильный он человек.
Не раз, бывало, енборисовские разъезды захватывали молодых казачек, насильники связывали их по рукам, затыкали рот кляпом; обесчестят и скроются — ищи ветра в поле. Енборисов знал об этом и с напускной строгостью наказывал: «Чтобы все было шито-крыто, иначе засеку до смерти». Енборисовские молодчики с каждым днем смелели, меняли насильно коней в станицах, обманывали жителей именем Блюхера, а братья Каширины не могли догадаться, что это дело рук Енборисова. Лишь один Евсей Черноус, зорко следя за сотней Енборисова, как-то сказал дома за ужином:
— Не серчай на меня, Николай Дмитрич, но Енборисов, как ящерица, проползет в какую хочешь щель.
— Все люди по-разному, — ответил Николай. — Енборисов человек, как бы тебе объяснить, иного склада. Заносчивый он, но сотню крепко держит в узде.
— На фронте мы таких не жаловали, а здесь он каждый раз ить что гуторит: «Я член рекапе и лучше знаю душу казака». Это почему же член рекапе лучше знает, чем я, беспартийный?