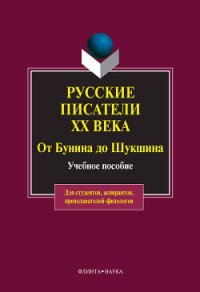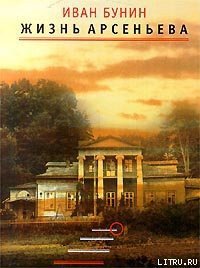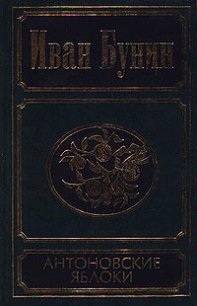Жизнь Бунина. 1870 - 1906. Беседы с памятью - Бунина Вера Николаевна (книги онлайн полностью бесплатно txt) 📗
Файл bun185b.tif
И. А. Бунин. Псальма про сироту (позднейшее заглавие — «Лирник Родион»;
автограф, датированный автором: «28 февр. (13 марта) 1913 г. Анакапри».
литературные знакомства, характер содружества стал понемногу меняться. Известный в то время писатель Михеев, очень своеобразный человек, знаток западной литературы, первый обратил внимание этих писателей на Ибсена, пробудил интерес к заграничным писателям; художественный критик Сергей Глаголь (Голоушев) явился связью с миром художников; Ю. А. Бунин, вошедший в этот кружок, заразил молодых литераторов общественностью. Понемногу стали примыкать к нему и другие писатели, сначала москвичи, потом иногородние: Чехов, Тимковский, Хитрово, — любитель литературы и сам писавший, редактор «Русской Мысли» Гольцев, литератор и изобразитель своих юмористических и забавных сценок — Ермилов, председатель «Общества любителей Российской Словесности» Грузинский, писатель из народа Семенов, А. М. Федоров, Короленко, Куприн...
С 1900 года писатели собирались по-прежнему у Телешова, но уже не на Валовой улице, а на Чистых Прудах (куда он переехал после своей женитьбы на художнице Елене Андреевне Карзинкиной, принадлежавшей к одной из самых видных и просвещенных купеческих фамилий), сначала собирались по вторникам, а потом неизменно по средам, и «Парнас» был переименован в «Среду» или «Середу». Число членов этого кружка продолжало расти. К этому времени вошли в него: брат хозяйки Александр Андреевич Карзинкин, льняной король, знаток живописи, член художественного Совета Третьяковской галереи и любитель литературы, особенно стихов, Горький, который вскоре рекомендовал в члены «Среды» Андреева, а потом и Скитальца, Чириков, Серафимович, Вересаев, Гарин-Михайловский; Андреев в свою очередь привел на «Среду» Бориса Зайцева, большого поклонника Леонида Николаевича, совсем еще юного студента.
После собрания, когда кружок окрестили именем «Среды» и когда за обильным ужином было много выпито, уже на улице, кто-то сказал:
— А как бы, братцы, не заела нас «Среда»...
И быстро, как это иной раз бывало с младшим Буниным, он ответил:
Я не боюся, господа,
Что может нас заесть «Среда»,
Но я боюсь другой беды,
Вот не пропить бы нам «Среды»!
Елена Андреевна Телешова отличалась редкой скромностью и застенчивостью, всегда просто одетая, в темном, приютившаяся на уголке стола, она не казалась хозяйкой; на «Среде» с публикой, иногда, какая-нибудь актриса, ее не знавшая, обращалась к ней с вопросом:
— А где здесь хозяйка? {186}
Она не переносила убийства, и в их имении целая конюшня была отдана слепым лошадям.
Во время Великой войны она с утра до вечера кроила белье для раненых, так что у нее болели пальцы правой руки от ножниц.
Тип лица у нее был восточный, красивый. Она была образованна, очень начитанна.
— Из всех друзей только Юлий Алексеевич читал столько, сколько я, — говорила она мне с сокрушением, — писатели вообще читают мало...
Когда подрос ее сын, Андрюша, она стала ему и мужу передавать содержание произведений иностранных авторов, еще не переведенных на русский язык.
Мать Карзинкиных, красавица, в девичестве Рыбникова, была сестрой собирателя народных песен. У нее была замечательная библиотека, много книг в художественно-изящных дорогих переплетах. Приобретала она и картины лучших русских мастеров, среди них был «Христос на Генисаретском озере» Поленова, где так тонко передан цвет неба и воды. Эта картина висела у Телешовых в столовой, когда они переехали на Покровский бульвар в дом Карзинкина.
7
Я нашла среди бумаг Ивана Алексеевича следующую страницу:
«С начала нынешнего века началась беспримерная в русской жизни вакханалия гомерических успехов в области литературной, театральной, оперной... Близился большой ветер из пустыни... И все-таки — почему же так захлебывались от восторга не только та вся новая толпа, что появилась на русской улице, но и вся так называемая передовая интеллигенция — перед Горьким, Андреевым и даже Скитальцем, сходила с ума от каждой премьеры Художественного театра, от каждой новой книги «Знания», от Бальмонта, Брюсова, Андрея Белого, который вопил о «наставшем преображении мира», на эстрадах весь дергался, приседал, подбегал, озирался бессмысленно-блаженно, с ужимками очень опасного сумасшедшего, ярко и дико сверкал восторженными глазами? «Солнце всходит и заходит» — почему эту острожную песню пела чуть не вся Россия, так же, как и пошлую разгульную «Из-за острова на стрежень»? Скиталец, некое подобие певчего с толстой шеей, притворявшийся гусляром, ушкуйником, рычал на литературных вечерах на публику: «Вы — жабы в гнилом болоте!» и публика на руках сносила его с эстрады; Скиталец все позировал перед фотографами то с гуслями, то в обнимку с Горьким или Шаляпиным! Андреев все крепче и мрачнее стискивал зубы, бледнел от своих головокружительных успехов; щеголял поддевкой тонкого сукна, сапога-{187}ми с лакированными голенищами, шелковой рубахой навыпуск; Горький, сутулясь, ходил в черной суконной блузе, в таких же штанах и каких-то коротких мягких сапожках».
Еще запись:
«Писателем я стал, вероятно, потому, что это было у меня в крови: среди моих дальних родичей Буниных было не мало таких, что тяготели к писательству, писали и даже печатали, не приобретя известности, но были и такие, как очень известная в свое время поэтесса Анна Бунина, был знаменитый поэт Жуковский, сын тульского помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки, получивший фамилию своего крестного отца Жуковского только потому, что был он сыном незаконным. Я еще мальчиком слышал много рассказов о нем в нашем доме, слышал от моего отца и о Льве Толстом, с которым отец, тоже участник Крымской кампании, играл в карты в осажденном Севастополе, слышал о Тургеневе, о какой-то встрече отца с ним где-то на охоте... Я рос в средней России, в той области, откуда вышли не только Анна Бунина, Жуковский и Лермонтов, — имение Лермонтова было поблизости от нас, — но вышли Тургенев, Толстой, Тютчев, Фет, Лесков... И все это: эти рассказы отца и наше со всеми этими писателями общее землячество, все влияло, конечно, на мое прирожденное призвание. Мне кажется, кроме того, что и отец мой мог стать писателем: так сильно и тонко чувствовал он художественную прозу, так художественно всегда все рассказывал и таким богатым и образным языком говорил. И немудрено, что его язык был так богат. Область, о которой я только что сказал, есть так называемое Подстепье, вокруг которого Москва, в целях защиты государства от монгольских набегов с юго-востока, создавала заслоны из поселенцев со всей России».
Привожу заметку о родителях и тетке Ивана Алексеевича, внучатой племянницы Людмилы Александровны, княгини Маргариты Валентиновны Голицыной, — в девичестве Рышковой, в которой тоже течет бунинская кровь, — жившей в имении родителей напротив усадьбы Буниных в Озерках, по другую сторону пруда:
«Насколько я помню Людмилу Александровну (пишет она о матери Ивана Алексеевича), она была небольшого роста, всегда бледная, с голубыми глазами, неизменно грустная, сосредоточенная в себе, и я не помню, чтобы она когда-нибудь улыбнулась.
Я видела ее в последний раз в Глотове (это, значит, во время Японской войны, когда она жила с Машей и внучатами у Пушешниковых, а Ласкаржевский был призван на войну. — В. М.-Б.). {188}
В противоположность Людмиле Александровне, Алексей Николаевич (муж ее) был выше среднего роста, довольно-таки плотного сложения, с открытым, веселым розовым лицом, с бело-седыми волосами, которые заканчивались на шее локонами. Был всегда оживлен, весел, быстр, очень хорошо играл на гитаре и пел русские песни; он отличался остроумием.
Варвара Николаевна Бунина (сестра Алексея Николаевича), — ее помню уже в глубокой старости. Она была небольшого роста, сгорбленная, с бледным восковым, овальным лицом, с крючковатым носом, а ее острый подбородок загибался вверх, и это мне в детстве напоминало открытый клюв птицы. Была она очень живая, веселая, помню, как у нас она играла на фортепьяно и пыталась что-то подпевать своим беззубым, шамкающим ртом. Она была, как бы, знаешь, ненормальна, например, когда моя бабушка ей предлагала ехать говеть, она отвечала, что ее «каждый день Царица Небесная и без того приобщает». Жила она во флигеле, в нескольких саженях от дома Буниных (в Каменке) и, когда Митя (сын ее племянницы, Софьи Николаевны Пушешниковой) со своими сверстниками, вывертывая полушубки вверх овчиной, пугали ее, она отлично их узнавала и кричала в окно: «Митя, Николашка, Вася, не пугайте меня, я до смерти боюсь!» Вообще она в жизни была очень неряшлива, ходила иногда без белья, в одном халате, но тщательно запахиваясь, а на голове ее был какой-то странный шлык, из-под которого торчали седые пакли волос. Однажды она лежала на траве и спала. Здесь же ходили куры, и петух, набросившийся на нее, выклевал у нее глаз.