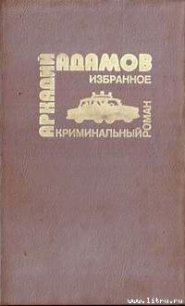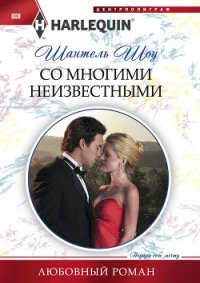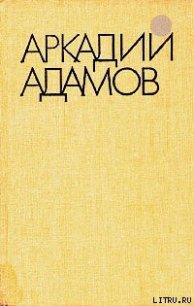Со многими неизвестными. Угол белой стены - Адамов Аркадий Григорьевич (библиотека книг TXT) 📗
— Племянница раза три приходила. С передачей. Вчера была.
— А виделась с ним?
— Нет.
— Передачу проверили?
— А как же. Жаткин смотрел.
— Ну и что?
Храмов удивленно взглянул на Лобанова:
— Нормально.
— Да, да, он ведь докладывал, — махнул рукой Лобанов, досадуя на свою забывчивость, затем, подумав, спросил: — А кто такая эта племянница?
— Школьница. В девятом классе. Скромная девчушка, тихая. Видел я ее.
— Гм… А мать, кажется, живет… весело. А?
— Так точно.
— В какой школе девочка учится?
— В четырнадцатой. — И, чуть помедлив, Храмов добавил: — Где мой Толька.
— Ну, твой еще в третьем.
— Так точно.
— Ох, и парень у тебя. Умора одна. — Лобанов с улыбкой покачал головой. — Встретил его вчера. Просто умора, — повторил он.
— Из школы шел?
— Ага. Одну важную вещь мне сообщил. Спрашиваю: «Ну, как, старик, дела на работе?» — «А, дела! — говорит. — Отвлекаюсь». — «С кем за партой-то сидишь?» — «А, сижу!.. С девчонкой». — «Что, — спрашиваю, — не уважаешь?» Так он мне, представляешь, говорит: «Деформировались девчонки, даже фартуки перестали носить». Деформировались, а? — Лобанов рассмеялся.
Храмов покачал головой и озабоченно произнес:
— Начитанный невозможно. Не знаешь иной раз, что и отвечать.
— Да, пошел народец, — ухмыляясь, согласился Лобанов и добавил: — А некоторые девчонки действительно деформировались. Это надо иметь в виду. Как фамилия сестры-то?
С лица Храмова стерлась улыбка, и он с обычной сухостью ответил:
— Стукова Нинель Даниловна.
— А она, часом, в Ташкенте не жила?
— Можно узнать.
— Надо узнать, — поправил его Лобанов. — И когда пода, в Борек, приехали. И где муж. Словом, все надо узнать. Дочку-то как зовут?
— Валентина.
— А по батюшке?
— Узнаем.
— Вот, вот. В случае чего… понимаешь?
— Так точно.
«С ним работать можно», — удовлетворенно подумал Лобанов. И неожиданно представил, как сидит за завтраком семья Храмовых. Ведь он всех их знал, и бабушку тоже. И статную красивую жену Храмову Зину — костюмершу городского драмтеатра, на которую заглядываются все мужчины, но которая беззаветно любит своего неразговорчивого Николая. Хотя однажды… Да, все было в этой семье, и все, между прочим, она выдержала. И Николай вел себя, говорят, в той истории, как надо. И осталась семья, и все как будто наладилось. Жизнь… Течет, катится через омуты и мели. Лобанов невольно вздохнул и вдруг подумал, что он, наверное, тоже все бы перенес, все бы сохранил.
— Ну, я пойду, — сказал Храмов.
Лобанов кивнул в ответ.
Оставшись один, он принялся рассеянно перебирать бумаги, требующие его подписи, и никак не мог сосредоточиться.
Лобанов досадливо отодвинулся от стола, прошелся по небольшому кабинету наискосок — от угла продавленного дивана возле двери до сейфа, стоявшего за столом, рядом с креслом, потом подошел к окну.
По улице медленно, робко шла весна. Мокрый, выпавший ночью снег еще лежал, как отсыревший сахар, на крышах, карнизах, во дворах, тяжело цеплялся за голые ветви деревьев, но мостовая уже была исполосована темными, неровными колеями, из-под колес машин и троллейбусов летели грязные брызги, а на тротуарах снег был и вовсе истоптан, превратился в жирную грязь. В зябком воздухе висел белесый туман. Стены домов сочились сыростью. Весна… Еще одна весна в этом городе…
Лобанов вернулся к столу и с особым усердием, словно стараясь отвлечься от чего-то, принялся за бумаги, про себя удивляясь этой минутной тишине в своем кабинете, когда никто почему-то не врывается, не звонит телефон, не сваливаются одно за другим неожиданные происшествия и неприятности.
И в этот самый миг, как будто торопясь исправить случайную оплошность, к нему без стука вбежал раскрасневшийся Володя Жаткин, в распахнутом пальто, с болтающимся на тонкой шее кашне, держа в руке пушистую, совсем новую кепку.
Едва успев прикрыть за собой дверь, он подскочил к столу и, тяжело дыша, возбужденно произнес:
— Александр Матвеевич, начинается… Вот!..
Он почти бросил на стол бланк телеграммы.
— Изымаем с разрешения прокурора… почту Семенова… — словно оправдываясь, проговорил он, все еще не в силах отдышаться. — И вот. Смотрите. Телеграмма!
— Это я и сам вижу, что телеграмма, — улыбнулся Лобанов. — Да ты садись.
— Вы только прочтите, прочтите! Я-то сяду, — взмолился Жаткин, тяжело опускаясь на стул.
Лобанов развернул телеграмму. «Шестнадцатого вечером встречай привет дядя».
— Та-ак… Выходит, дождались. — Лобанов поднял хмурые глаза на Жаткина. — Шестнадцатое, между прочим, завтра.
— Телеграмма — вы видите? — из Ташкента, — торопливо доложил Жаткин. — А поезда оттуда через день. И завтра как раз приходит. Тридцать восьмой. И как раз вечером. В двадцать один тридцать.
— Оттуда, может, и самолет вечером приходит.
— Так ведь прошлый раз они поездом ехали.
— Вот именно. За дураков-то их не считали. Погоди.
Лобанов позвонил Храмову.
Через пять минут в кабинете собрались сотрудники. К этому времени Жаткин успел выяснить, что каждый вечер, в двадцать ноль-ноль, действительно прибывает самолет из Ташкента, и по утрам, кстати, тоже. Так что указание в телеграмме вечера было в этом случае необходимо. Впрочем, утром, оказывается, приходил и поезд, на котором, с пересадкой правда, тоже можно было добраться из Ташкента в Борек. На этот поезд указал один из сотрудников.
— Словом, без Семенова мы никого не встретим, — заключил Лобанов. — Авось врачи нам завтра вечером одолжат его на часок.
Тут он невольно подумал о враче, который должен был «одолжить» Семенова, и голос его чуть заметно дрогнул. Впрочем, никто из присутствующих этого не заметил.
Было решено, что разговор с Семеновым состоится завтра утром. Прямо в больнице. И вполне естественно, беседовать с Семеновым должен был сам Лобанов. Слишком важной была эта беседа, слишком много зависело от ее исхода. Ведь Семенов мог, для вида даже согласившись помочь, затем объявить, что не обнаружил приехавших. А те первыми к нему никогда, конечно, не подойдут. В этом случае ниточка оборвется навсегда. Больше уже к Семенову никто не приедет.
Храмову и еще двум сотрудникам было поручено к концу дня собрать дополнительные сведения о Семенове, все, какие возможно, а Жаткину — о сестре и племяннице.
— Проверь, кстати, — сказал ему Лобанов, — не получала ли и сестрица в эти дни сигнала из Ташкента. Письма, телеграммы. Всюду проверь как надо. Ясно?
— Ясно, Александр Матвеевич, — нетерпеливо ответил Жаткин. — Я пойду. Разрешите?
— Все могут идти. А ты, Храмов, обожди.
Когда они остались одни, Лобанов, закурив, сказал:
— Давай еще раз уясним ситуацию. Значит, Семенов впервые получил чемодан с гашишем в январе. Привезли двое. Одного звали Иван. Имя второго неизвестно. По виду узбек. Приехали, видимо, из Ташкента. Поезд был оттуда. Сейчас и телеграмма оттуда. Так что сходится. Тех двоих мы не нашли. Но чемодан конфисковали. Недостающий там гашиш отдал Сенька, карманный вор. Семенов поручил ему продать это на рынке. Помнишь?
Храмов молча кивнул.
— Сенька никого, кроме Семенова, не знает, — продолжал, откинувшись на спинку кресла и неторопливо покуривая, Лобанов. — Значит, ниточка тянется к нам сюда из Ташкента, и на конце ее только Семенов. Пока все ясно, а?
— Так точно, — подтвердил внимательно слушавший Храмов.
— Вполне вероятно, что завтра приедут те же двое. Их, между прочим, может узнать не только Семенов, но и Тамара, его бывшая подружка, так сказать. Как думаешь?
— Ее судили. Она уже в колонии. Этапировать не когда, — покачал головой Храмов.
— Да, верно, — согласился Лобанов. — Тем более что может приехать и кто-нибудь другой, кого она не знает, а Семенов знает. Итак, остается он, один он. Все правильно.
— Надо сегодня бы с врачом договориться, — предложил Храмов. — И место для беседы найти. Может, съездить?