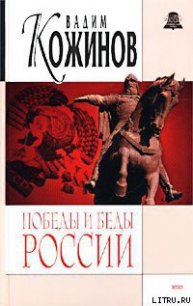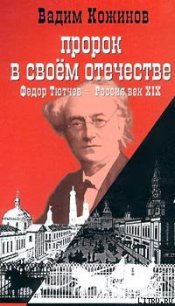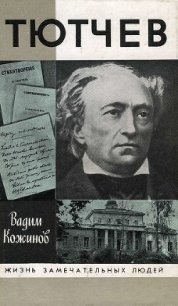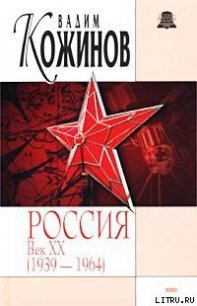Как пишут стихи - Кожинов Вадим Валерьянович (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью TXT) 📗
Дело, повторяю, не в острых и значительных событиях, не во внешней поэтичности биографии (хотя и это нередко имеет свое значение). Дело в той внутренней силе и закономерности, которая связывает и делает глубоко осмысленными очевидные биографические факты. Речь идет о верности себе, о цельности судьбы, об упорном, ни перед чем не останавливающемся движении по избранному пути. Речь идет о том, что можно назвать целеустремленным творческим поведением поэта.
Когда мы стремимся определить слагаемые лирического творчества, мы говорим о проникновенной и богатой мысли поэта, о его способности вчувствоваться в многообразные проявления жизни, о совершенстве владения словом, интонацией, ритмом.
Все это совершенно необходимо для лирического творчества. Но, по-видимому, есть еще более глубокая и общая основа этого творчества, без которой невозможна подлинная лирика, без которой все остальное оказывается недостаточным и как бы "рассыпается".
Можно назвать немало лирических поэтов, обладающих в той или иной мере и глубиной мысли, и богатством чувств, и высоким мастерством, и при всем том лишенных той подлинности, той самобытности, которые только и делают лирику неотъемлемой, необходимой, органической частью духовной жизни народа. Стихи таких поэтов могут быть интересными, в том или ином отношении полезными, сыграть свою роль в истории поэзии и т. д. Но они не могут стать частицей духовного бытия людей, войти в их кровь и плоть, так как сами они не представляют собою непосредственного воплощения реальной жизни личности.
Все это, конечно, относится так или иначе к искусству в целом, но в лирической поэзии эти свойства выступают наиболее выпукло и полно. Ибо искусство лирики в большей степени, чем какой-либо другой вид искусства (или даже, скорее, качественно по-иному, чем иные виды искусства), врастает, вживается в души людей. Другие искусства все-таки существуют вовне. После восприятия спектакля, кинофильма, картины, музыки, романа или поэмы в сознании, конечно, остается неизгладимый след; но все же это не само произведение, а память о нем. Между тем любимые стихи существуют в душах людей не просто как воспоминание о них, но сами по себе: "Я вас любил, любовь еще, быть может...", "И скучно, и грустно...", "Опять как в годы золотые..." - это живая реальность духа многих людей86.
Но для того чтобы лирическое произведение достигло этой цели, творчество поэта должно быть не только глубоким размышлением, не только выражением чувств, не только мастерским словесным творчеством, но и как бы непосредственным жизненным действием, прямым участием в жизни, поведением.
Об этом очень точно говорил один из крупнейших мастеров лирической прозы87, оставивший поразительно глубокие суждения о своем искусстве, Михаил Пришвин. Он видел в "поведении" самую глубокую и мощную основу своего искусства.
"Слово мое... - записывал он в 1951 году, - акт моего поведения в отношении строительства мира". Художник призван "найти в этом строительстве свое собственное место, сделаться таким же кровным участником в деле, как все... В наше время все говорят о мастерстве художника, считая его причиной творчества. Но мастерство без этого поведения... все равно, что движение на мельнице жерновов без зерна"88. Поэтому художник может действительно творить "только при условии цельности своей личности"; узнавание и оберегание этой цельности - его первая задача: "Я не управляю творчеством как механизмом, но я веду себя так, чтобы выходили из меня прочные вещи: мое искусство слова стало мне как поведение"89.
Такое понимание сущности творчества вовсе не является сугубо личным достоянием Пришвина. Оно высказано в той или иной форме многими большими художниками, особенно теми, которые лиричны по своей сути. Еще полтораста лет назад Батюшков заметил, что "первое правило" науки поэзии - "пиши, как живешь". Это в самом деле как бы основной закон лирической поэзии; ее ценность непосредственно определяется тем, насколько произведения поэта являются формой его творческого поведения, его особенного - поэтического, но в то же время как бы вполне реального участия в бытии людей.
Настоящая лирика представляет собою продолжение и инобытие жизненной деятельности поэта; эта деятельность словно прямо переходит в иную форму. Отсюда ясно все неоценимое значение для поэта того "оберегания" условий цельности личности, о котором говорил Пришвин. У него есть удивительное замечание: "Я... стал заниматься искусством слова, соблюдая в своих поступках величайшую осторожность"90. Именно так: "осторожность" в поступках, в поведении, ибо только при этом условии можно создать подлинно поэтическое слово. Иначе стихи будут только "словами", а не "делами". Поэт будет высказывать какие-то мысли, поучения, чувства, но стихи его не будут живыми поступками. Он будет говорить о чем-то, но не что-то, петь горлом, а не всей грудью.
Об этом точно и метко говорил однажды Александр Межиров, разбирая стихи молодого поэта: "стихотворение... написанное весьма складно, крепко свинченное замысловатыми дактилическими рифмами, никакой новизны в себе не несет. Дело в том, что автор фактически не является активным участником своего произведения. Он лишь поучает, дает советы..."91.
В стихотворении есть мастерство, есть даже мысль, но нет главного живой жизни, и потому оно не способно уйти обратно в жизнь, стать частицей бытия людей. И "мастерство" в данном случае не только не помогает, но, скорее, мешает, создавая видимость поэзии.
Это, конечно, вовсе не значит, что мастерство, свободное владение словом играет какую-то второстепенную роль. Оно есть необходимое условие поэзии. Но все победы мастерства имеют подлинный смысл лишь тогда, когда они запечатлевают творческое поведение поэта, а не выступают только как средство воплощения какой-либо мысли или чувства.
Истинная поэзия существует как бы на грани искусства и жизни, естества. В совершенном, захватывающем нас до самых глубин поэтическом произведении всегда есть та или иная деталь, поворот, щель, которые вдруг размыкают закругленную, отшлифованную реальность искусства в необъятную и незавершенную жизнь. Конечно, этот выход за пределы искусства не должен разрушить само искусство; добиться верного соотношения можно, лишь обладая безошибочным чувством меры. Поэт движется между жизнью и искусством по узкой, как лезвие, грани. И редко кому, да и далеко и не всегда удается пройти по этому лезвию.
Но, во всяком случае, необходимо сознавать, что, целиком переступая в царство искусства, поэзия костенеет и мертвеет. Иоганнес Бехер приводит в одной из своих работ меткие слова своего соотечественника, видного поэта Георга Юнгера: "В тот момент, когда поэт приобретает сноровку в стихе, он должен, если хочет остаться поэтом, отказаться от этой сноровки. Иначе его искусство превратится в версификаторство"92.
Эта заповедь звучит парадоксально, но по существу она глубоко верна. Поэт не может не начинать каждый раз заново, исходить каждый раз не из предшествующих стихов, а из самой своей жизни - как будто он переливает ее в теле стиха впервые. А затвердевающие приемы уже выработанного мастерства препятствуют этому. И тогда вместо творческого поведения стихи запечатлевают искусственную позу, вместо живых движений - заученную жестикуляцию.
Но главное даже не в том, чтобы уметь перелить в стих свою неповторимую реальную жизнь, свое "поведение". Как уже говорилось, сама жизнь, сама судьба поэта может стать почвой подлинной лирики лишь в том случае, если это поэтическая судьба, если жизненное "поведение" поэта является цельным, творческим, высоким. Если же поэт просто плывет по течению жизни, отдаваясь его случайным и мелким извивам, если он живет "неосторожно", не оберегая цельности своей личности, - его лирика неизбежно теряет подлинность и самобытность...
Нередко говорят, что настоящие стихи рождаются лишь в тех случаях, когда поэт не мог не написать данные стихи. Это не следует, конечно, понимать буквально - не мог, да и все тут. Речь идет о другом - о том, что данные стихи органически родились из самой жизни поэта, как рождаются из нее его поступки или чувства любви и дружбы.