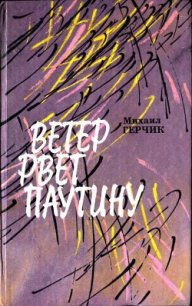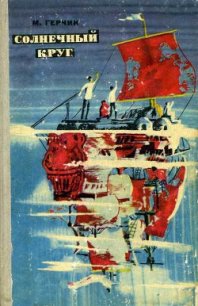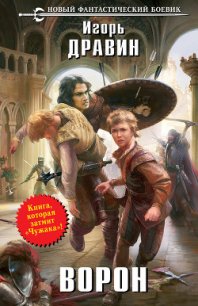Отдаешь навсегда - Герчик Михаил Наумович (бесплатные книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Андрей обиженно шмыгает носом, он сидит на газете, как турецкий паша на ковре, разве что чалмы со страусовым пером не хватает и кальяна в руке вместо сигареты «Вега», и я с трудом удерживаюсь, чтоб не расхохотаться. Господи помилуй, представляю, сколько ему пришлось побегать, прежде чем он добился, чтоб мне дали попробовать поработать над этим переводом. Не зря он говорил про свои ноги…
Я вспоминаю ледяное лицо главного редактора, который даже не предложил мне сесть, когда я к ним однажды заглянул. Хорошо, если ты отделался одними только ногами, друг мой, Андрей свет Иванович! Неужели ты думаешь, что она и вправду мне так нужна, эта треклятая машина? Лучше бы ты для себя раздобыл перевод, представляешь, как Тамарка обставила бы квартиру! Она же мечтает о полированном немецком гарнитуре, если бы ты знал, как ей осточертел ваш диван с полочками и никелированная кровать! Она ждет не дождется, когда уже кончится твое позднее студенчество, чтобы выбросить все это и пожить по-человечески. Но разве с тобой поживешь?! Ты и в новой квартире устроишь клуб или гостиницу, благо места хватит… Не нужно мне никакой машины, мне ничего не нужно, Лида бы поскорей пришла, села бы рядом: «Ничего, Саша, выплывем!»- и больше мне ничего не нужно. Нет — еще чтоб ты был, такой вот суматошный, готовый куда-то тащить меня на горбу, и Тамара, и все мои друзья…
— Ладно, — говорю я, — не куксись. Мы подъедем туда, но не сейчас, сейчас я должен дождаться Лиду.
— А чего ее дожидаться, вон она идет. — Андрей вытягивает шею и смотрит в окно. — Вон она идет, твоя Лида, и ничего с ней не случилось. Так и быть, поговорите пока, я заеду за тобой завтра. Салют!..
Он пропускает Лиду в двери, кивает ей и уходит.
76
Хромой Иванка, тот самый единственный молодой мужик, который остался на всю нашу деревню к концу сорок второго года, был заядлым охотником. Он ставил в степи капканы на зайцев, на волков, хорошо знал звериные следы и повадки и почти никогда не приходил без добычи.
Однажды Иванка поймал лису. Пока он тащил ее через всю деревню, намотав на кулак цепочку от капкана, за удачливым охотником увязался целый табунок мальчишек. Был среди них и я. В ту пору тяжело заболела мама. Она целыми днями лежала на печи, а я, ошалевший от счастья, что могу надеть ее ватные штаны и валенки, мотался по деревне, строил с ребятишками снежные крепости, играл в снежки, одним словом, спешил набегаться и наиграться, пока снова не останусь без штанов и валенок и не засяду на печи, как в тюрьме, откуда выводят только на коротенькие прогулки.
Лиса попала в капкан передней лапой. Иванка тащил ее, а она грызла настывшее железо намертво сцепившихся дужек, царапала задними лапами ледяной наст, извивалась и молотила хвостом, а за ней тоненькой прерывистой ниточкой тянулся кровавый след. Казалось, по снегу полз и трепетал маленький живой костер.
Иванка притащил лису к себе на двор, бросил возле каменного амбара — глухо звякнуло железо капкана о камень, — и пошел в избу, широко расставляя ноги в черных подшитых чесанках, и рядом с ним, прихрамывая, шла его сгорбленная тень. А мы окружили лису и с жадным любопытством смотрели, как зябко вздрагивают ее тонкие уши, как дыбятся на загривке рыжие шерстинки, а желтые бусинки глаз затягиваются белой пеленой страха и предсмертной тоски.
Вернулся Иванка. В огромном кулаке его тонула деревянная рукоятка блестящего отточенного шила. Мы почтительно расступились перед ним. Он присел и несколько секунд молча смотрел на лису. Потом подтянул ее за цепочку капкана, защемил между колен, зажал левой рукой узкую мордочку, а правой коротким резким движением воткнул ей шило в одну и тут же — в другую ноздрю. Отбросил окровавленное шило и ловко прижал лису носом к снегу, чтоб не брызнуло на белое поле овчинного полушубка.
Лиса только дернулась и застыла, даже пикнуть не успела, закричал я, почувствовав, как входит в мой мозг это блестящее отточенное шило, закричал пронзительно и надсадно и упал, зарывшись лицом в снег, чтоб не видеть ни Иванку, ни лису.
Иванка поднял меня на руки и испуганно спросил, заглядывая в глаза:
— Ты чего, малец? Али ты припадошный?…
— Зачем вы ее так? — горько заплакал я, вырываясь из его рук и размазывая кулаками слезы. — Зачем вы ее так?!
— Тю-у, дурной! — Иванка выпустил меня и подтолкнул к воротам. — А как же еще? Самый файный способ. Быстро, чисто, а главное — шкурка непопорченная. Целехонькая шкурка…
Он захохотал, а я поплелся к воротам. Не выдержал и оглянулся — рыжей мятой тряпкой лежало на снегу то, что еще минуту назад казалось мне маленьким живым костром.
77
Я встаю ей навстречу, но она осторожно обходит меня и останавливается у окна. За окном — цветы, целое море цветов.
— Я никогда не думала, что там будет столько любопытных, ну, не тех, кто пришел судиться, а просто любопытных, — негромко говорит Лида и смотрит, как Клавдия Францевна срезает цветы. — Каких-то бабок в платочках, старичков пенсионеров, каких-то достаточно молодых любительниц острых переживаний. Слушают сосредоточенно, словно повинность отбывают, активно: шепчутся, негодуют, только что не аплодируют. Оказывается, есть люди, которым суд успешно заменяет кино, театр. Это же на самом деле театр, Сашка, да еще какой! Где, в каком театре так выворачивают перед зрителями души, так обстоятельно копаются в самом интимном, куда посторонним даже в щелочку заглядывать нельзя, так щедро поливают друг друга самыми душистыми помоями… Каждый обвиняет в своих бедах другого, каждый хочет казаться лучше, чище, хотя бы в глазах этих болельщиков. Передо мной разводилась пара. Прожили вместе меньше года, а выплеснули друг на друга столько мерзостей, что обоих следовало бы держать в клетках. Как их можно отпускать к людям — вот что мне не понятно! Как их можно отпускать назад к людям, этих подлецов, если они год прожили вместе и не нашли друг для друга ни одного хорошего слова? Ну, расходятся люди, не без этого. Но не найти ни одного хорошего слова!.. Только грязь, одну лишь мелочную грязь… А ведь когда-то целовались, и сердца, наверно, обмирали. Хоть бы это вспомнили, хоть бы расстались как люди. Вот уж кому не завидую, так это судьям — всю жизнь копаться в человеческих отбросах! Наверно, надо иметь стальные нервы и железное сердце, чтобы не стать человеконенавистником.
Она говорит, и смотрит в окно, и сухо барабанит пальцами по подоконнику, а я ощущаю, как во мне набухает и прорастает, словно зерно в теплой влажной земле, боль, та самая боль, что завивается в зеленую и оранжевую спираль. Я уже немного отвык от нее за это время, и вот она снова запускает свои тоненькие красные корешки глубоко в меня, и каждая клетка тела наполняется пульсирующей болью. Нет, не зерно, целое дерево прорастает во мне и распинает меня на своих упругих ветвях, осыпанных сизыми заостренными почками. Почки лопаются, толчками крови отдаваясь в висках, и из каждой выглядывает красная шляпка мухомора с круглыми белыми пятнышками-веснушками.
Я представляю себе этот узкий зашарканный зальчик, длинный стол на возвышении, застланный зеленым сукном в чернильных пятнах, тяжелые кресла с высокими спинками и подлокотниками, ряды стульев, сколоченных планками — зачем, чтоб кто-нибудь не украл? — и отполированных до зеркального блеска задами, кисловато-затхлый, от скопления народа, воздух, широко раздутые, вздрагивающие в нетерпеливом ожидании ноздри тех, для кого чужое горе — бесплатное представление. Вот и еще одна скомканная, кривобокая жизнь прошла перед их прищуренными глазами, еще раз утвердила кого-то в мысли, что он не хуже других, нет, лучше, куда лучше — вон ведь они какие, бедолаги… А если кто-либо расходится сдержанно и благородно, они, наверно, недовольны, как зрители бывают недовольны бездарной пьесой и беспомощными актерами… «болельщики» на ристалище человеческих страстей.
— Все было гораздо проще, чем я предполагала, проще и как-то обыденней, — говорит Лида и отворачивается от окна. — То ли судья мне такой попался — толстенький, добродушный, нисколько не похожий на человеконенавистника… Знаешь, у него един глаз синий, а другой карий, интересно, правда?… То ли вообще не так страшен черт, как его малюют… Он меня еще до заседания вызвал, судья, расспросил, где учусь, как практика в школе прошла, чем родители занимаются. Будто так это важно, пятерка у меня за практику или двойка! Спрашиваю: «Это к Делу относится?» Говорит: «Еще как относится». Потом проштамповали: «Примирения сторон не достигнуто». Теперь — областной… а зачем? Зачем еще областной, спрашивается?… Ох, Сашка, никогда больше разводиться не буду, противная штука…