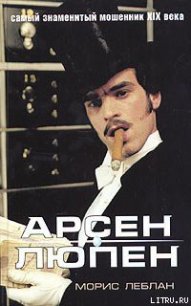Гадкие лебеди кордебалета - Бьюкенен Кэти Мари (лучшие книги без регистрации .TXT, .FB2) 📗
Что я должна была сделать, чтобы остановить ее падение? Куда делась та девушка, которая велела мне не задерживаться на лестнице и быстро бежать из Оперы домой? Она утверждала, что ушла из прачечной из-за распухших пальцев и трещин на руках. Наверное, этого довольно, чтобы девушка из прачки стала служанкой, но не из-за больных рук Антуанетта отказалась от честного труда. А из-за чего? Может быть, дело в тех четырех букетах, которые целую неделю украшали нашу комнату? Из-за вспышки счастья, которая озаряла меня каждый раз, когда я вспоминала мягкий удар цветов о свои колени?
Придя в конце концов на «Корриганов», Антуанетта щурилась с балкона четвертого яруса на золотые ленты моей бретонской юбки, на кружево передника, воротника и чепчика. Потом сказала, что я в пятерке лучших танцовщиц второй линии кордебалета и танцую лучше полудюжины девиц из первой. Она поцеловала меня в лоб, и я положила голову ей на плечо. Мы довольно долго стояли так, и я чувствовала себя спокойной, как гусеница в коконе. Но, может быть, ее губы, которых я не видела, в это время кривились в горькой усмешке?
Опера. Вот что было у меня и чего не было у нее. И это немало. Все те мгновения, когда я как будто воспаряла над бесконечными лестницами, над страданиями у станка, над скукой бессмысленного стояния на сцене.
— Поиск красоты, — говорит мадам Доминик. — Танец — это поиск красоты.
Что же, я ее нашла? На сцене, а иногда и в классе я забываю об Антуанетте, о холодности маман. Иногда наступают моменты кристальной ясности.
Я не счастливее, чем была в классе сестры Евангелины, когда папа смешил меня и я не думала, что надо скрывать зубы. Но зачем вспоминать об этом? Размышляя о том, как складывается моя жизнь, лучше вспомнить, что случилось потом: как месье Леблан постучал в нашу дверь и потребовал долг. Только благодаря Антуанетте мы тогда смогли выжить и не оказаться на улице. А сейчас, после начала моих отношений с месье Лефевром, мы едим сдобу на завтрак и наваристый суп на ужин, а порой остается пара су и на конфеты. И все же я до сих пор обдираю заусенцы на пальцах. Даже сильнее, пожалуй, чем до перевода во вторую линию кордебалета. По понедельникам я не могу заснуть или просыпаюсь в темноте и чувствую ужас от того, что скоро настанет утро вторника и мне придется идти в квартиру месье Лефевра. Как-то раз маман даже рявкнула на меня, чтобы я прекратила ворочаться, и потрогала мне рукой лоб.
— Жара нет, — заявила она, и в голубоватом свете луны я увидела, как она вытаскивает из-под тюфяка маленькую бутылочку. Она прижала ее к моим губам — это была анисовая настойка, такая горькая, что у меня язык чуть не завязался в узел. Но после этого сон наконец пришел. С тех пор я уже трижды сама прикладывалась к этой бутылочке.
Как-то утром вторника я заметила, что Антуанетта как-то странно смотрит на то, как я причесываюсь. Она покачала головой и спросила:
— У тебя все хорошо, Мари?
Я чуть не рассказала ей о деревянных башмаках и о раздвинутых ногах, но глаза у нее были красные и распухшие. Ей хватало своих горестей, и я не хотела добавлять к ним свои. Мне ведь уже исполнилось пятнадцать.
— Просто устала, — сказала я.
— Ты кричала ночью. Дважды.
— Извини, я не хотела мешать тебе спать.
Она пожала плечами.
— А вот Шарлотту пушкой не разбудишь, — добавила я как можно бодрее.
— Дар невинности. — Наши взгляды встретились, и на мгновение показалось, будто она уже догадывается о деревянных башмаках, а я — о доме мадам Броссар.
— Ей ведь всего десять.
— Да, — согласилась Антуанетта. Мы серьезно кивнули другу. И этот кивок как будто скрепил самую торжественную из клятв.
Иногда я думаю, как могла бы все изменить.
Идя из класса мадам Доминик по рю де Дуэ, я часто вижу Альфонса в поварском колпаке и переднике. Он курит на крыльце пекарни и обязательно кивает мне. Иногда я останавливаюсь, и тогда он говорит:
— Привет, девочка из балета.
Я улыбаюсь в ответ.
Неделю назад он попросил меня подождать и исчез в пекарне. Вскоре он вернулся, держа в одной руке ванильное печенье, а в другой — апельсиновую мадленку.
— Что будешь?
Я выбрала, и мы еще постояли. Я грызла свою мадленку, он смахивал с губ крошки печенья. Это придало мне смелости спросить, доволен ли его отец девушкой, которую нанял месить тесто для восьмидесяти багетов.
Альфонс усмехнулся:
— Он два раза в неделю жалуется, что она и вполовину не такая сильная, как ты. И еще она не поет.
— Поет?
— Ты все время пела за работой. И очень красиво. — Он опустил взгляд.
Я почувствовала, как розовеют щеки. Альфонс слегка ткнул меня кулаком, но я все же не рискнула спросить, не возьмут ли меня снова на работу. Может быть, я научусь рано вставать даже после вечернего спектакля. Я знала, что это возможно.
Тем вечером я постучала в тяжелую дверь месье Дега. Он уже девять месяцев не приглашал меня в мастерскую. Сабина открыла дверь и, вытирая руки о передник, сказала:
— Посмотрите-ка на нее, совсем взрослая дама стала.
В мастерской был полумрак, горело всего несколько ламп, месье Дега стоял в своей рабочей блузе, подперев подбородок рукой, как будто размышляя, не вернуться ли к мольберту, несмотря на поздний час.
— Я хотела говорить с вами о работе.
Если отец Альфонса наймет меня на несколько часов, месье Дега снова станет меня рисовать, я схожу к мяснику, часовщику и торговцу посудой и кто-нибудь из них тоже наймет меня, то я сумею справиться без тридцати франков месье Лефевра. Правда, непонятно, как мне тогда находить время на сон.
Месье Дега взглянул мне в глаза.
Я развела руки.
— Я теперь не такая тощая и вообще больше не крыска.
Раз в несколько недель я видела его в Опере. За кулисами, в классе, в партере. Обычно он называл меня по имени, а однажды сказал, что аллегро у меня стало намного лучше. Он всегда был в синих очках и смотрел на меня твердым проницательным взглядом. Но тем вечером в своей мастерской он опустил глаза и пробормотал:
— Не выходит эта статуэтка.
Он махнул рукой в сторону, и я увидела фигурку, ростом примерно в две трети моего. Я даже задышала чаще, поняв, что он от нее не отказался. Я подошла ближе, рассматривая холщовые туфли, юбку из тарлатана, ярко-зеленую ленту, обвязанную вокруг толстой косы — кажется, сделанной из настоящих волос. Кожа была гладкая или шершавая, цвет ее менялся — лицо было словно медовое, ноги — смуглые. И все это оказалось вылеплено из какого-то полупрозрачного вещества, не блестящего и не тусклого, не твердого и не мягкого.
Я решила, что это воск. Представила, как он стекает по свече, как застывает на холоде, как легко меняет форму жарким днем даже без нагревания на огне. Тонкая пленка того же вещества покрывала волосы, лиф и туфли — на лифе пленка была желтой, а на туфлях красной.
Не камень, не бронза, не фарфор. Только воск. Такой нестойкий. Дешевый.
И что месье Дега имел в виду, одевая статуэтку в настоящую одежду и приделывая ей настоящие волосы? Этот парик был сделан из кос, которые продала голодающая девушка? Или из локонов мертвой?
Жалкое кукольное тело — тощие ноги, слишком большие локти и колени, жгуты мускулов, тянущиеся по бедрам и по ключицам — больше не походило на мое. Но лицо… низкий лоб, обезьянья челюсть, широкие скулы, маленькие полузакрытые глаза. Я как будто смотрела на себя в зеркало. Единственное, на что хватило милосердия месье Дега — он спрятал мои зубы.
Что же за историю души и тела месье Дега пытался рассказать на этот раз? О чем я думала, стоя в четвертой позиции долгие часы? Я мечтала о сцене, о месте во второй линии кордебалета, о добром слове мадам Доминик. У меня ныли мышцы и урчало в животе, я мечтала, чтобы четыре часа скорее прошли, чтобы дома для меня нашелся кусочек колбасы. Но я стояла неподвижно, думая о славе, представляя себе балерину, нарисованную пастелью и мелками или даже маслом. А потом он сказал, что это будет статуэтка, и я совсем размечталась. Я представляла себе Марию Тальони, раскинувшую крылья, парящую над землей.