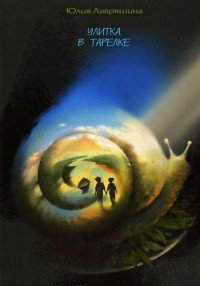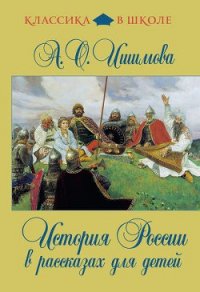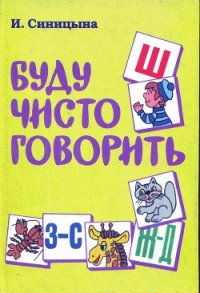Свободные от детей - Лавряшина Юлия (читать книги полные .TXT) 📗
Воскресшая. Это уже больше относится ко мне. Она — моя воскресшая юность. Нет, детство. Это мне сейчас пять дней, и это я внимательно изучаю рафинадные плитки потолка — одну из граней моего нового мира, сулящую сладкую жизнь. А через семь (опять семь!) лет именно мое сердце будет выпрыгивать от радостного страха перед надвигающимся разноцветным смерчем школьной жизни. А в четырнадцать я опять угожу в это горе, светло именуемое «первой любовью», и в этом чувстве вновь не будет ничего «лунного»…
А своего короля-рыцаря я встречу гораздо позднее, и вот тогда все станет, как в той сказке: они жили долго и счастливо. Вот только сказочник скрыл от мира, что у них была чудесная кареглазая девочка, которую звали Анастасия…»
— Значит, у нее мои глаза…
Произношу это машинально, думая совсем не об этом или не только об этом, но еще и том, сколько материнской любви до сих пор таилось в сердце моей сестры, и как, оказывается, здорово она пишет. И еще о самом неожиданном, что резануло до того, что впору орать от боли: стоит ли мой талант того, чтобы принести ему в жертву все человеческие радости?!
Вспомнив, что меня могут застать на месте преступления, я сбегаю вниз и выхожу за дверь, чтобы сделать вид, будто только пришла. Сажусь на крыльцо, как всегда сияющее белизной — на это у Леры есть приходящая прислуга, — и пытаюсь расслышать звуки засыпающего леса. Но его тьма молчалива, даже юные матерщинницы, так возмутившие мою сестру, уже разбрелись по домам.
Я кручу в пальцах ключ от Лериного дома и думаю, стоит ли мне снова входить туда. До сих пор я калечила судьбы только своим героям, но они не могли быть на меня в претензии — такая уж судьба им была уготовлена. Но живым людям я не причиняла особого зла… Но тут же меня настигает звук детского голоса: «Не отдавайте меня ей!» И, передернувшись от боли, я понимаю, что та девочка, которую мне так хочется увидеть сейчас, выкрикнула бы, если б смогла, обратное: «Отдай меня ей!»
— Отдать тебя? Как я могу отдать тебя?
Я бормочу это, вцепившись в свои волосы, тяну их, что есть силы, пытаясь заглушить другую боль, в которой так явственно слышится, что, конечно же, я могу! Это лишь минутный психоз, непредсказуемая реакция организма, с которой разумный человек вполне может справиться.
— Нет!
Это само срывается с губ. Я вскакиваю, врываюсь в дом и сразу же натыкаюсь на Леру, которая уже спускается по лестнице с большим полотенцем в руках. Выронив его, она цепляется за перила обеими руками, и глаза у нее делаются сумасшедшими:
— Не пущу!
Ее слипшиеся от воды волосы свешиваются змеями-альбиносами, тянутся к лицу — так она вся подалась вперед, готовая к прыжку.
— Я хотела только взглянуть на нее.
Мне не хочется умолять, но даже то, что я смотрю на сестру снизу, делает ее положение выигрышным. Только я понимаю это потом, восстановив картину в памяти. А в эту минуту не могу думать ни о чем, кроме как о невозможности увидеть моего ребенка.
— Я потеряла из-за тебя свое детство, — произношу я тихо, но мне самой слышится угроза в голосе. — Теперь ты хочешь лишить меня детства моего ребенка?
— Тебя никто ничего не лишал, — она уже вся трясется. — Ты сама придумала это… Сама! Ты предложила родить для меня. И сделала это… Спасибо! Но теперь-то что тебе здесь надо?
Ее вопли уже достигают ушей Егора, и он выбегает в одних шортах, босой и взлохмаченный, более чем когда-либо похожий на Леннарта. Не сказав ни слова, он хватает меня за плечи и тащит к двери. И мне кажется, что это мой швед мстит мне и отвергает любовь, которую я хотела отдать его дочери. Потому что он знает: на самом деле я не умею любить.
Все проходит.
Соломон был прав: все проходит. Уже на следующий день я обнаруживаю, что мне хочется не только валяться в полузабытьи, баюкая свою боль, но и поесть и забраться под душ. И я понимаю, что если сейчас с праведным негодованием отвергну эти желания, недостойные страдающей матери, то так и завязну в этой тоске, что уже сводит меня с ума. Она делает меня непохожей на саму себя, подменяет какой-то слабовольной рохлей, неспособной ни на что, кроме как таращиться в потолок, в стену, дышать в подушку и задыхаться ее жаром.
И я сползаю с кровати, включаю оба телефона — пусть внешний мир поможет мне, встряхнет своим пустозвонством. Напомнит, кто я и чего мне на самом деле хотелось от этой жизни… Не ребенка. Только не этого. Я просто ненадолго впала в безумие и придумала историю о похожей на меня женщине, страстно влюбившейся в свою новорожденную дочь. Но это не обо мне, хоть я и поверила в это…
Нужно просто хорошенько помотать головой, чтобы мозги вернулись на место. И облиться контрастным душем — ледяным до визга, горячим до стона… Пройти самодельное крещение и снова стать прежней, замкнутой только на себе, цельной до отвращения.
«Нет! — ловлю себя. — Последнее не вписывается в программу… Я утратила чувство слова?»
Вот это уже пугает. Если я потеряю то главное и последнее, чем дорожу, от меня просто ничего не останется. Пустота. Некоторые люди представляют собой только сгусток любви к ближним, и если их лишить тех, на кого она направлена, то погаснет отраженный свет, показывающий их миру, и они сами будто бы исчезнут. Такова моя сестра, которая потому и цепляется за своего Егора, а теперь и за Настю, что сама — пустота. Забрось ее на необитаемый остров, и она мимикрирует под лиану, обовьется вокруг какого-нибудь крепкого, фаллической формы ствола, чтобы опять быть с кем-то, ни в коем случае не одной…
Боязнь одиночества сродни боязни зеркала: ты боишься увидеть себя, остаться с собой и заскучать. Потому что подозреваешь, как ты неинтересен, как пуст и предсказуем, и жизнь себе создаешь такую же — лишенную смысла, серенькую и пыльную, как придорожная галька. А на саму дорогу тебе уже не выбраться, ведь нужно обладать характером, чтобы хоть чуть-чуть, но подняться над собой.
Я за волосы вытаскиваю себя из депрессии. Включаю радио и нахожу волну, бьющуюся ритмами восьмидесятых, чтобы вновь ощутить себя школьницей с легким, подвижным телом, готовым пуститься в пляс.
Такой ты и увидел меня впервые, девочкой с вызывающими косичками — протестом против собственного взросления. Хотя была уже студенткой, но с моим-то ростом едва тянула на восьмиклассницу. Этакая нимфетка с низким женским голосом, о котором ты говорил, что готов слушать его часами. Что за преступные фантазии едва не взорвали твое тело в тот день, когда ты увидел меня в институте? Я опоздала и вошла в аудиторию, когда ты уже начал свою лекцию. Остановившись на пороге, я сказала тебе: «Добрый день. Могу я присесть?» Ты вспоминал потом, что тебя поразило, как я произнесла это — будто снизошла до тебя, извиниться и не подумала. И моя короткая юбочка в складку, и светлые тапочки на мягкой подошве… Сама невинность и этот порочно-спокойный голос…
Я только сейчас начинаю понимать, что все эти годы отказывалась даже от мысли о детях потому, что мнительно хотела сохранить в себе ту самую девочку, которую ты полюбил. Ведь то, что ты смотришь на меня уже из другого мира, не имеет значения. Я по-прежнему хочу нравиться тебе, быть достойной тебя. И никому не позволю назвать тебя просто старым извращенцем, любившим школьниц. Ты любил только меня.
И вот я уже что-то жую, блаженно щурясь, вся такая чистенькая после душа, если только можно назвать чистым тело через неделю после родов… Организм истекает презрением к себе, женщин в такое время далее в церковь не пускают. Неужели Господь и впрямь считает грязной ту, что только что подарила миру человека? Не это ли угодно ему? Или это все происки священников, которые втайне мечтают вновь запалить костры инквизиции, и, объявив ведьмой каждую, что выбивается из серого ряда, сжигать нас, сжигать живьем, чтобы духу на земле не осталось! Чтобы рядом ползали только безмолвные мышки, покорно впитывающие телом чужую похоть, в том числе и таящуюся под рясами, и опускающие глаза, когда их называют исчадиями ада. Разве женщине могло быть доверено рождение ребенка, если бы она сама не была существом божественным?