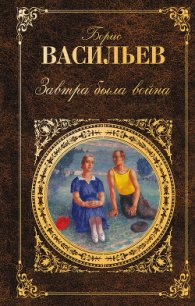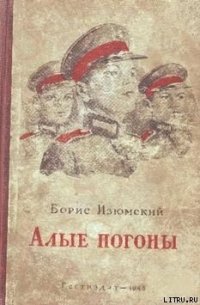Борис Пастернак - Быков Дмитрий Львович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
К этому времени были написаны три десятка любовных стихов — Пастернак писал их не просто как дневник (хотя сам поражался легкости, с которой сочинил за весну полтысячи строк), но как вставку в книгу «Поверх барьеров». Елена просила у него книгу, он отговаривался отсутствием экземпляров, не желая на деле дарить ей сборник, где почти все — о любви к другой, к Наде Синяковой. Был экземпляр, где некоторые стихи просто заклеены, а поверх белых страниц от руки вписаны другие. Экземпляр погиб во время войны. Как бы то ни было, не думая еще о новом сборнике, к моменту отъезда Виноград он написал уже почти целиком и «Развлеченья любимой», и «До всего этого была зима». В Романовке она заболела и некоторое время ему не писала. Зато он получил открытку от ее брата, в которой ему померещился намек на неверность Елены,— грозовое напряжение, в котором жил Пастернак этим летом, было таково, что он написал ей чрезвычайно резкое письмо. Она, еще не распечатав его, так обрадовалась, что ее поздравил почтальон; открыла — и в свою очередь страшно обиделась.
«Ваше письмо ошеломило, захлестнуло, уничтожило меня. Оно так грубо, в нем столько презренья, что если б можно было смерить и взвесить его, то было бы непонятно, как уместилось оно на двух коротких страницах… Я люблю Вас по-прежнему. Мне бы хотелось, чтоб Вы знали это — ведь я прощаюсь с Вами. Ни писать Вам, ни видеть Вас я больше не смогу — потому что не смогу забыть Вашего письма. Пожалуйста, разорвите мою карточку — ее положение у Вас и ее улыбка теперь слишком нелепы»
(это о «Заместительнице» — «Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет»).
Получив это письмо (оно датировано 27 июня), Пастернак понесся улаживать отношения — так попал он в край южных степей, где никогда прежде не бывал. Пейзаж «Сестры моей жизни» во второй трети книги резко меняется — начинается «Книга степи»; меняется и настроение — поединок из любовного, полушутливого становится серьезным, в действие все чаще врывается трагедия.
Немудрено, что Маяковский пришел в восторг от этих стихов, что Пастернак выслушал от него «вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-либо услышать». Вероятно, в «Сестре» его больше всего обрадовала эта ненасытность, разбивающаяся, как волна, о тоску и холодность возлюбленной: «Что глазами в них упрусь, в непрорубную тоску». Непрорубную!— какое маяковское слово, грубое даже по звуку, и какое уместное. Объясняя эту любовь (и эту книгу) Цветаевой, Пастернак 19 марта 1926 года писал ей:
«Сестра моя жизнь была посвящена женщине. Стихия объективности неслась к ней нездоровой, бессонной, умопомрачительной любовью. Она вышла за другого. Вьюном можно бы продолжить: впоследствии я тоже женился на другой. Но (…) жизнь, какая бы она ни была, всегда благороднее и выше таких либреттных формулировок. Стрелочная и железно-дорожно-крушительная система драм не по мне».
Как «Сестра моя жизнь» была отражением реальности высшего порядка, нежели политика,— так и любовь Пастернака и Елены Виноград управлялась, по-видимому, закономерностями более серьезными, нежели ссоры, подозрения, тоска Елены по Сергею Листопаду или стойкая привязанность к Шуре Штиху (Пастернак об этом с самого начала догадывался, но не желал себе признаваться). Катастрофа назрела в небесах и определила происходящее на земле. Явственно катастрофичны пейзажи второй трети книги: горящие торфяники (хотя чего ж тут необычного — лето жаркое), буря («Как пеной, в полночь, с трех сторон внезапно озаренный мыс» — не зря же здесь это штормовое сравнение!), ветер («И, жужжа, трясясь, спираль тополь бурей окружила»). Если и возникает затишье, то — «Но этот час объят апатией, морской, предгромовой, кромешной».
Здесь, как всегда у Пастернака, природа одушевлена — но он сам, кажется, пугается этих волшебных превращений. Мир не просто одухотворен, но одухотворен опасно, он начинает вести себя непредсказуемо — ибо в привычную земную реальность вторгаются вестники иной. С сорокалетней временной дистанции это выглядело не так грозно —
«Казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным» —
какое, в самом деле, праздничное видение! Однако в самой книге даже на уровне лексики ощущается не столько восторг, сколько испуг: оживший сад раз за разом назван «ужасным» — знаменитое «Ужасный, капнет и вслушивается…», в поэтике Пастернака — до какого-то момента бессознательно, затем, годов с сороковых, уже вполне сознательно — темы природы и народа, народа и растительного Царства тесно переплетены, и ожившие сады, деревья и степи здесь странно параллельны восстающей народной стихии. «Восстание масс» предстает в книге восстанием природы — то сочувствующей, то враждебной; медник и юродивый — такие же детали балашовского пейзажа, как ельник или базар. За влюбленными наблюдают вокзалы, поезда, здания, деревья, солнце — все в молчаливом сговоре. Оживший мир — это далеко не всегда праздник поэтического преображения; иногда это очень страшно.
О поездке в Романовку Пастернак написал «Распад»: название этого стихотворения, казалось бы, противостоит его вдохновенной и таинственной сути — но чудеса, вроде горящей в степи скирды, не предвещают ничего хорошего:
Все их лучшее осталось в Москве, весной; сближение выявило чужеродность. Пастернак еще этого не видел и не желал с этим мириться — у него была счастливая способность не отдавать себе отчета в том, что могло довести до отчаяния. Отчаяния, впрочем, он не чувствовал, потому что переживал «чудо становления книги», писал практически непрерывно, и в некотором смысле ему было теперь уже не до реальной Елены. Она это замечала не без обиды:
«Когда Вы страдаете, с Вами страдает и природа, она не покидает Вас, так же как и жизнь, и смысл, Бог. Для меня же жизнь и природа в это время не существуют».
Он упорно не желал себе признаваться, что любовь «бога неприкаянного» для нее избыточна, чрезмерна, что она, попросту говоря, не любит его больше,— она сама не желала ему все это сказать прямо, но на самом-то деле главное читается:
«Вы пишете о будущем… для нас с Вами нет будущего — нас разъединяет не человек, не любовь, не наша воля,— нас разъединяет судьба».
Дальше у нее идет декадентский пассаж о том, что «судьба родственна природе и стихии». Нет бы прямо и без околичностей сказать, что отношения исчерпаны и что она не понимает половины того, о чем он говорит,— но, во-первых, ей его жалко («Я всегда Вам добра желаю»), а во-вторых, у их разрыва не было никакой рациональной причины. Встреться они летом пятнадцатого, скажем, или двадцатого года — кто знает, как бы все получилось? Может, вовсе не заметили бы друг друга, а может, прожили бы вместе долгие годы.
Пастернак же в упоении «становлением книги» не понимает что сила, давшая книгу, уже исчерпана — и в личной его биографии, и в истории. Он еще напишет письмо брату Елены, Валериану, где посетует на незрелость молодого поколения. Оно якобы не умеет за себя решать и в себе разобраться — то есть он упрекнет Елену в том же, в чем пять лет спустя упрекала его Берберова: не видит себя со стороны, не понимает себя… Она, напротив, вполне себя понимала; ей нужно было другое — и это другое она выбрала, мучаясь совестью и жалуясь в письмах прежнему возлюбленному на отчаяние и мысли о смерти. В начале сентября он снова к ней поехал — но тут уж уперся в полное непонимание, и единственным его желанием по возвращении в Москву (поезда уже еле ходили, добирался он кружным путем, через Воронеж) было «спать, спать, спать и не видеть снов».