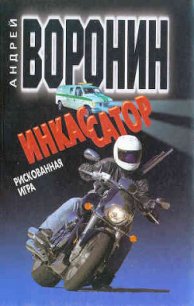Троянская тайна - Воронин Андрей Николаевич (книги онлайн бесплатно .txt) 📗
– Вышел на цель, – сообщил он, когда Федор Филиппович снял трубку. – Убирайте наружку, ни к чему им на меня пялиться.
– Сей момент, – ответил Потапчук, и в его голосе без труда улавливались юмористические нотки. – Ты там смотри в оба... эксперт-искусствовед. Если опять сядешь в лужу, нас с тобой обоих в участковые переведут.
Глеб проигнорировал этот ценный совет, попросту прервав соединение. Он был зол на Федора Филипповича, и это, между прочим, означало, что генерал прав: пора менять специальность, старость крадется, нервишки шалят, а вот уже и самолюбие взыграло... Тьфу!
Серая "девятка" громко, на весь двор, заквохтала стартером, прямо как железная курица, вознамерившаяся снести бронированное яйцо размером с баскетбольный мяч. Глеб из своего укрытия с интересом наблюдал за сложным процессом запуска двигателя, почти ожидая, что из выхлопной трубы вот-вот действительно что-нибудь вывалится. Впрочем, дело ограничилось всего-навсего звучным хлопком и кубометром густого сизого дыма, после чего машина дико взревела на холостом ходу и, сбросив обороты, наконец-то тронулась с места.
Убедившись, что автомобиль наружного наблюдения благополучно докатился до угла и без приключений одолел поворот, Глеб покинул свое ненадежное укрытие и спокойной деловой походкой приблизился к подъезду. Лифта здесь, естественно, не было, черного хода и подавно, так что сбежать Самокат не мог. Его нынешняя подруга, Нинка Зайцева по кличке Кролик Роджер, проживала на пятом этаже, и необходимость пешком карабкаться на самый верх с лихвой окупалась тем, что сигануть в окно Самокат не мог тоже – жидковат он был для таких трюков, да и к здоровью своему относился бережно.
Все это вселяло в Глеба бодрость духа и уверенность в себе. После того номера, что выкинул Самокат во время их предыдущей встречи, Сиверову требовалась как раз такая обстановка – уют, интим и полное отсутствие запасных выходов. Самокат, похоже, был уверен, что дело у него выгорело в наилучшем виде, и потому ограничил меры предосторожности тем, что затаился в квартире Кролика Роджера. Это была ошибка, и Глеб явился сюда как раз затем, чтобы указать на нее Самокату. Ну, и еще кое за чем, естественно...
Звонить в дверь пришлось долго: сожительница Самоката в данный момент была на работе, а сам герой дня, надо полагать, спал после вчерашнего возлияния. Глеб терпеливо стоял на вытертом коврике под дверью и давил на кнопку звонка, вслушиваясь в доносившиеся из-за двери электронные трели. Наконец в прихожей послышались неторопливые шаркающие шаги, и хриплый голос произнес с подвыванием, которое свидетельствовало о безудержной зевоте:
– Ну, хорош трезвонить, шалава... Да слышу, сказано тебе! Опять нажралась, собака...
Глеб убрал палец, электронное дзыньканье и бряканье смолкло, замок щелкнул, и дверь открылась. Сиверов шагнул через порог и для начала коротко и точно ударил стоявшего в полутемной прихожей Самоката кулаком в солнечное сплетение. Самокат охнул и сложился пополам, и тогда Сиверов, обеими руками приподняв над головой упакованную в оберточную бумагу картину (гордость провинциального краеведческого музея, одна из ранних работ самого Куинджи!), стремительно опустил ее на лысую, слегка замаскированную свалявшимися кудрями макушку Шуры Самоката.
Глава 2
Она неторопливо шла вдоль галереи, почти не глядя по сторонам, лишь изредка, как хороших знакомых, приветствуя легкой улыбкой самые дорогие для нее экспонаты – те, что больше всего нравились ей, и те, которые выделял отец. Стук ее высоких каблуков далеко разносился в пустых по случаю выходного дня залах; мощная подсветка была отключена, и в сероватом дневном свете знакомые полотна выглядели совсем не так, как при беспощадном сиянии электрических ламп. Краски на них казались потускневшими, и сами картины при таком освещении производили впечатление более старых, но зато более живых и настоящих.
Ирина Андронова, сколько себя помнила, была здесь, в Третьяковке, как и в любом другом художественном музее Москвы и Питера, как у себя дома. Дом – это место, где тебе всегда рады, и если это утверждение верно, то музеи и картинные галереи обеих столиц действительно были для Ирины родным домом. Сначала ее приводил сюда отец, перед которым благоговели все, кто имел хоть какое-то отношение к изобразительному искусству. Реставраторы буквально молились на него, как на чудотворную икону, смотрители низко кланялись, а суровые уборщицы становились по стойке "смирно" и брали швабры "на караул". Такое впечатление, по крайней мере, осталось у маленькой Ирины после первых походов в музеи. Скорее всего впечатление это, как все первые впечатления, было правильным. Когда она родилась, отец был уже очень немолодым человеком и достиг в своем деле таких высот, какие большинству его коллег попросту и не снились; в искусствоведении он был даже не генералом, а генералиссимусом, и воздаваемые ему окружающими почести – не только заслуженные, но и в большинстве своем абсолютно искренние – были привычным фоном, на котором прошла вся жизнь Ирины до сегодняшнего дня.
Отец, казалось, не имел ничего против того, чтобы дочь пошла по его стопам. Во всяком случае, они это никогда не обсуждали – почти никогда, за исключением единственного случая. Случай этот произошел, когда Ирина окончила школу и объявила, что подает документы на искусствоведческий. Да и тогда, собственно, никакого особенного разговора у них не вышло. Отец только вздохнул и, глядя на нее поверх очков, коротко спросил: "А не боишься?"
Вопрос, конечно же, был далеко не праздный. Детям, которые пошли по стопам известных родителей, всегда несладко. Говорят, на детях гениев природа отдыхает, и практика, как правило, доказывает верность этого утверждения. Как бы ни был хорош молодой артист, отбрасываемая его великими родителями тень автоматически затушевывает, умаляет его достижения; работы молодого художника всегда станут сравнивать с работами его отца, и сравнение, увы, будет не в пользу того, кто, как проклятием, наделен приставкой "младший", употребляемой, в зависимости от контекста, либо перед фамилией, либо после нее. Можно дожить до ста лет, удостоиться всех мыслимых почестей и наград, но так и умереть "младшим"...
А чего стоят хотя бы сплетни! Ты можешь вкалывать до седьмого пота, оттачивая и шлифуя доставшийся тебе по наследству талант, можешь десять раз сменить фамилию, и все равно про тебя будут говорить, что ты всю жизнь пользуешься своим отцом (или матерью, кому как повезет), как некой комбинацией бульдозера и асфальтового катка, которая движется впереди, прокладывая для тебя идеально прямую и гладкую дорогу к успеху. Будут плести интриги и обвинять в них тебя, будут шушукаться и хихикать за спиной, сладострастно перемывая тебе косточки, будут рассказывать басни о каких-то людях, которые в десятки, в сотни раз талантливее, умнее и компетентнее тебя, но пропадают в нищете и безвестности, потому что ты занимаешь их место по праву рождения...
Вот что на самом деле значил короткий вопрос Константина Ильича. "Не боюсь", – ответила Ирина, и это был первый в ее жизни случай, когда она сознательно солгала отцу (невинное детское вранье, разумеется, не в счет). В действительности она боялась всего этого и еще многого другого прямо-таки до оторопи и именно по этой причине вкалывала до седьмого пота даже тогда, когда другие отдыхали, – не помышляя о славе или деньгах, а хотя бы для того, чтобы отцу не было за нее стыдно.
И труды ее не пропали даром. В свои тридцать лет она была кандидатом и заканчивала написание докторской, и слово ее в мире искусствоведения, хоть и не стало пока истиной в последней инстанции, как слово профессора Андронова, обрело тем не менее весьма солидный вес. К ней обращались за консультацией, к ее мнению прислушивались, и происходило все это вовсе не потому, что она была дочерью знаменитого профессора. О ней все чаще говорили как о грамотном, знающем, весьма компетентном и, главное, наделенном отменным чутьем эксперте. И как бесценное сокровище хранила она воспоминание о том единственном случае, когда после долгого и ожесточенного спора ей удалось переубедить отца, заставить его изменить мнение и признать ее правоту в вопросе датировки работы какого-то неизвестного голландца. Да, тот случай был единственным (если бы их оказалось больше, профессор Андронов просто не был бы профессором), но он таки имел место! Даже если тот спор, как иногда начинало казаться Ирине, был всего лишь своеобразным экзаменом, то она выдержала его с честью. Словом, к тридцати годам ей удалось достичь почти невозможного: стать самостоятельной величиной в тесном искусствоведческом мирке еще при жизни знаменитого отца.