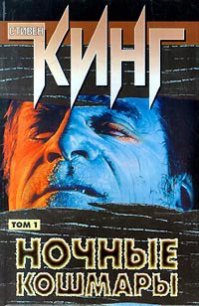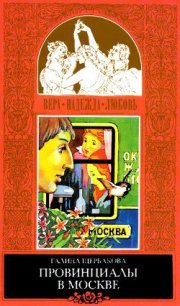Уткоместь, или Моление о Еве - Щербакова Галина Николаевна (книги .TXT) 📗
Да, мои училки хотели так хоть раз. Потому что ведь все равно деньги платишь, все до копеечки сдаешь в семейную казну, чтоб на 8 Марта твой Марко или как его там по дороге с работы забежал на кладбище и вытянул из венка покойного начальника базы три гвоздики. Или обломал цветок в конторе с раз в год зацветшего кактуса. «Сумасшедшие деньги отдал, сумасшедшие!» Такая честная у нас любовь!
Я их всех люблю, жалею, ору на них, на дур. У меня одна старая дева грохнулась в обморок, когда возле доски у мальчишки вздыбились штаны, и она велела ему привести себя в порядок, а он ей сказал: «Извините, не могу, эрекция». Сволочь, конечно. Но старая дура зашаталась, и парню пришлось ее ловить практически на эрекцию. Девчонки на уроках разглядывают новые прокладки, а мальчишки просят посмотреть тоже. Ужас, кошмар, но это все дым в трубу, который не мешает им хорошо учиться, и подозреваю, что большинство из них целомудренны. Грубое время, рожденное хамами другой эпохи, требует соответственной реакции. Дети мои не ангелы, но тысячу раз не жлобы. Они лучше нас. Они чертят звездолеты, хромосомы, они толкиенисты и буддисты, они верят в переселение души и всерьез озабочены полученной от отцов кармой.
У меня почти физическое чувство их рожденности из моего лона. Хотя это я на себя много беру. Но раз меня Бог сделал завучем, я буду исполнять его план по максимуму, может, и выполню Божью волю. Я человек не воцерковленный, но после Израиля стала верующей. Как мне объясняют, неправильно верующей, на протестантский манер, но ведь не в этом суть… Я ращу свою веру и надеюсь, что расту с нею сама. Вера мне не ниспослана, я, как все в своей жизни, зарабатываю ее трудом и старанием.
Вино выпили всё, осталась четверть цимлянского, бутылка была рядом со мной, и ее как бы за мной закрепили. Никто же не знает о моих особенных отношениях с ним. Мы с цимлянским – подельники в подтоплении дружбы. Где вы, мои девчонки? Где?
Возникновение тетради в клеточку, что лежит под дерматиновой сумкой с документами на приватизацию квартиры, паспортом и дипломом об окончании института. Все лежит в ящике письменного стола без одной ножки, которую подменяют четыре вишневых тома писем Чехова и туристический проспект по Греции.
Чертовски болит нога. Они сказали: «Остеомиелит». Вранье! Спрашивают: не воевала ли я, не подвергалась ли обморожению во время войны? Видимо, у меня такой вид, что я могу казаться участницей даже Куликовской битвы. Хотя перед глазами этих сволочей история болезни, и там написано: я родилась в 1952 году и, увы, не в окопе. Я лежала на вполне теплом месте – у бабушки в деревне, и меня любили и холили.
Единственный раз в жизни.
Бабушка забрала меня у матери сразу. Хотя, по русской логике, должна была выпихнуть нас вместе. Мать, как говорится, меня словила на ветру, присев пописать. Я так и не знаю, в сущности, эту девочку из деревни – маму, которой бабушка выправила паспорт, чтоб та чему-нибудь научилась в городе. Но номер не прошел. Через девять месяцев, принесенная ветром, я лежала в цинковом корыте, и меня мыли через белую тряпицу. Почему-то считалось, что так правильно детскому телу. Матушка была изгнана из дома батогом – это мне объяснили потом, когда я играла с цветочками на широком подоконнике – это и было мое местожительство лет до пяти. Я целовала цветочки герани, нюхала толстомясое алоэ, а вечером сползала с подоконника в загородку кроватки, где тихо ночевала, потому как знала: буду шумной – батог висит в сенях, и меня, как маму, ф-ю-ить – и на мороз и ветер! Я скоро поняла, что это вранье, что бабушка души во мне не чает, а о матери рассказывает только страшное для примера жизни.
«А было, Поля, так. Пошла глупая девица одна по улице города-городища-страшилища. Кругом нее – дома выше леса, выше проводов, выше водонапорки, и такие страшные все, и так горят красным окном, как дьяволы в аду. А навстречу глупой девице из черного дома тать. Тать, деточка, – это мужик с длинным хоботом между ногами. Он им и разит налево и направо глупых девиц. И от этого и рождаются у них крошки без счастья. Как ты».
Я не боялась бабушкиных сказок. Во-первых, потому что никогда, никогда, никогда я не буду жить в городе, где дома выше водонапорной башни. Мое пространство раздвигалось медленно-медленно. С подоконника на кровать-клетку, а потом – через долгое время – на тканую тряпочку-половичок, которую я тоже перецеловала до последней ниточки – такой она была красивой. И только летом порог избы на крылечко, теплое от солнца: зажмуришься и сидишь, сидишь хоть весь день. А потом уже двор… По пояс ходила в огуречной огудине, колючие огурчики срывать можно было только с бабушкиного разрешения. Это нечеловеческое счастье – держать колючий огурец.
Счастьем была утка с утятами, когда она вела их первый раз в речку. Тогда-то я и решила стать учительницей. Неизгладимый образ утки. Училась хорошо, это было как-то само собой. Поэтому меня ни разу не похвалили, никогда не давали никакой грамоты. Я всегда была Нащокина, и все. Нащокина с четвертой парты у окна.
Я боялась поступать в институт, бабушка боялась еще больше. Я читала в ее глазах: «А может, не надо нам это?» Она была старенькая, но мысль ее была не о себе – кто поможет? – а обо мне. Она помнила о канувшей в городе дочери, о татях с хоботами, а я вся такая-никакая. Ручки тоненькие, ножки тоненькие, ничего на мне на нарастает, кожа и кости.
Но я поступила на географический факультет пединститута. Там не было конкурса. География мне немножко нравилась. Я, например, только в девятом классе узнала, что на земле много разных погод. И есть страны, где нет зимы. Я намечтала жить там, но не знала, как мне выяснить наличие герани, огурцов и уток в таких условиях.
«Такое говно живет везде», – сказал мне парень, но не на мой вопрос, а по случаю. Смотрели учебный фильм про Средиземноморье. Показывали, как растут бананы и как на них скачут мартышки, были там и утки. Вот он и сказал, парень. Но я никогда нигде не была, кроме деревни, Рязани и Москвы. Мы с бабушкой обе недоедали, чтобы что-то оставить друг другу. И ругались из-за этого.
Я приезжала на каникулы и уже сопровождала утку к речке. Она мне что-то крякала, я крякала ей в ответ. У меня никогда не было подруг. Ни одной.
Когда в городе было очень уж плохо – холодно, голодно, хамски, – я ложилась лицом вниз и мысленно перецеловывала гераниевый цветочек, а когда было совсем скверно, срывала огурчик без бабушкиного разрешения. Откуда ни разу не уезжавшая бабушка знала про дома с красными окнами и про татей, которые не поодиночке, а толпами ходили по улице? Она же рассказывала: видела рожденного от хобота младенца, которого девчонки, завернув в тряпье, сбросили в уборную. Бабушка умерла, оставив мне деревенский домик. Я тогда только-только закончила первый курс. Хотелось остаться в нем жить, но мне сказали: «Дура!» Замотав ворота железякой, я уехала.
Домик спалили через месяц. Ни за что. Стоит себе чего-то и молчит, дурачина избина. Размотали тамошние тати железяку, толкнули незапертую дверь и бросили спичку на половичок. Так быстро и красиво все занялось. Вот и не стало счастья. Можно уже и про боль. Ногу я застудила и поранила знаю когда. В «Пионерскую правду» я писала заметки о природе, а однажды получила заказ рассказать о том, как зимуют в зоопарке птицы. Мне тогда давали самые глупые задания, какие вываливались из головы редакторши, дуры из дур. Уже по дороге туда я поняла, что у меня промокает подметка и холодом сводит пальцы. Но как можно сорвать задание? И я собрала весь материал. Господи, как они со мной разговаривали, эти начальники птиц! Я была им хуже старухи галки с осыпающимися перьями, – мокрая, дрожащая. Когда уходила, в спину услышала: «К нашему берегу что ни приплывет…» Троллейбус, как всегда, не пришел, и я решила добежать до трамвая, но расхлябанная подошва зацепилась за кусок асфальта и почти оторвалась. Денег на такси у меня не было сроду. У меня не было даже двушки на автомат. Ну а если бы были? Что, за мной бы прислали машину? Редакционная «Волга» дышала на ладан, и редактор держала ее для поездок в ЦК и для встреч всяких родственных пионерских начальников.