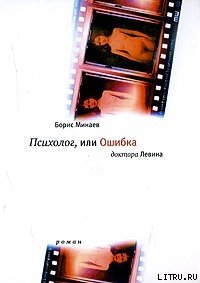Ельцин - Минаев Борис Дорианович (читать книги бесплатно полные версии TXT) 📗
Обилие бумаг (считай каждый день помидоры, чай, вагоны… а сдвига существенного не будет), совещаний по мелким вопросам, придирок, выискивание негатива для материала. Вопросы для своего “авторитета”.
Я уже не говорю о каких-либо попытках критики снизу. Очень беспокоит, что так думают, но боятся сказать. Для партии, мне кажется, это самое опасное. В целом у Егора Кузьмича, по-моему, нет системы и культуры в работе. Постоянные его ссылки на “томский опыт” уже неудобно слушать.
В отношении меня после июньского Пленума ЦК и с учетом Политбюро 10/IX нападки с его стороны я не могу назвать иначе, как скоординированная травля. Решение исполкома по демонстрациям — это городской вопрос, и решался он правильно. Мне непонятна роль созданной комиссии, и прошу Вас поправить создавшуюся ситуацию. Получается, что он в партии не настраивает, а расстраивает партийный механизм. Мне не хочется говорить о его отношении к московским делам. Поражает — как можно за два года просто хоть раз не поинтересоваться, как идут дела у 1150 парторганизаций. Партийные комитеты теряют самостоятельность (а уже дали ее колхозам и предприятиям).
Я всегда был за требовательность, строгий спрос, но не за страх, с которым работают сейчас многие партийные комитеты и их первые секретари. Между аппаратом ЦК и партийными комитетами (считаю, по вине т. Лигачева Е. К.) нет одновременно принципиальности и по-партийному товарищеской обстановки, в которой рождаются творчество и уверенность, да и самоотверженность в работе. Вот где, по-моему, проявляется партийный “механизм торможения”. Надо значительно сокращать аппарат (тоже до 50 %) и решительно менять структуру аппарата. Небольшой пусть опыт, но доказывает это в московских райкомах.
Угнетает меня лично позиция некоторых товарищей из состава Политбюро ЦК. Они умные, поэтому быстро и “перестроились”. Но неужели им можно до конца верить? Они удобны и, прошу извинить, Михаил Сергеевич, но мне кажется, они становятся удобны и Вам. Чувствую, что нередко появляется желание отмолчаться тогда, когда с чем-то не согласен, так как некоторые начинают “играть” в согласие.
Я неудобен и понимаю это. Понимаю, что непросто и решить со мной вопрос. Но лучше сейчас признаться в ошибке. Дальше, при сегодняшней кадровой ситуации, число вопросов, связанных со мной, будет возрастать и мешать Вам в работе. Этого я от души не хотел бы.
Не хотел бы и потому, что, несмотря на Ваши невероятные усилия, борьба за стабильность приведет к застою, к той обстановке (скорее подобной), которая уже была. А это недопустимо. Вот некоторые причины и мотивы, побудившие меня обратиться к Вам с просьбой. Это не слабость и не трусость.
Прошу освободить меня от должности первого секретаря МГК КПСС и обязанностей кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС. Прошу считать это официальным заявлением.
Думаю, у меня не будет необходимости обращаться непосредственно к Пленуму ЦК КПСС.
С уважением, Б. Ельцин».
…Читать этот документ — сегодня намного более сложная задача, чем в 1990 году, когда он впервые был обнародован в книге Б. Н. Ельцина «Исповедь на заданную тему». Ну а для читателя моложе тридцати лет (а ведь таких будет становиться все больше!) этот текст и вовсе полон загадок, неясностей.
Почему автор письма так горячо беспокоится за судьбу неких «партийных комитетов» и «партийных организаций» — это одно и то же или все-таки разные вещи? Что такое «негатив для материала» и почему автор письма так его не любит? Что за комиссию создали без его ведома? Кто заставляет автора письма каждый день считать помидоры, вагоны, чай и другие, столь несхожие вещи?
Ну и главное: противоречия смысловые. Чего хочет автор письма — чтобы уволили его самого или наказали Лигачева? Он пытается предостеречь генерального секретаря от грядущих опасностей или высказать ему в лицо горькую правду о нем самом? В чем, так сказать, цель?
Я уж не говорю о таких темных оборотах его речи, как «небольшой пусть опыт, но доказывает это» или «мотивы согласия или отказа не имели, конечно, значения».
Наверное, вот так же современный читатель строчка за строчкой разгадывает откровения Мартина Лютера или Даниила Заточника. Страстный монолог кандидата в члены Политбюро точно также несводим к конкретным понятиям, давно утратившим свое значение, как и произведения «раскольников», реформаторов из далекого прошлого. Потому что ими движет нравственное чувство — так же как Ельциным. И это чувство проникает сквозь всю партийную схоластику его языка.
Тем не менее можно сказать, что именно с этого письма началась современная история России. Его можно считать первым документом нашей революции. Революция не выбирает себе вождей, первоисточников и документов. Она рождается спонтанно и вдруг. Наша — родилась из этого письма.
Между тем конкретный смысл послания исключительно прост. Ельцин хотел работать в Москве точно так же, как работал в Свердловске — то есть по открытым, понятным ему правилам игры. С «развязанными руками», независимо от политических игр в Кремле. Принимая всю ответственность на себя. В каком-то смысле это была утопия. Но сам он верил в реальность этой утопии.
Словом, задуматься было над чем. И Горбачев задумался. Посмотрим, что было дальше.
«Горбачев впоследствии скажет, — пишет американский биограф Ельцина Леон Арон, — что решил не спешить, а тщательно обдумать этот вопрос. О послании Ельцина он не сказал никому. По возвращении из отпуска позвонил Ельцину и предложил поговорить позже. По словам Горбачева, “позже” означало после очередного Пленума и празднования годовщины Октябрьской революции…»
Кстати, неверно, что «Горбачев не сказал никому» о письме Ельцина. Анатолий Черняев, помощник Горбачева, вспоминает:
«В отпуске, на даче в Крыму… захожу я в урочный час в кабинет к Горбачеву. Он что-то возбужденно говорит в трубку. Когда я вошел, разговор уже заканчивался. Сел, он мне протягивает листки: “Вот, почитай”. — “Что это?” — “Почитай, почитай”. Это было письмо Ельцина, в котором тот говорил, что больше “так” не может работать. Он, мол, выкладывается, не жалея себя, а ему вместо того, чтобы помочь, мешают. И мешает, ставит палки в колеса сам Секретариат ЦК, Лигачев лично. Просит об отставке.
“Что с этим делать?” — спрашивает М. С.
Я вспомнил, как Горбачев не раз — и на Политбюро, и по другим случаям — хвалил Ельцина, говорил о том, что ему достался “сложный и запущенный” объект — Москва, развращенная Гришиным и Промысловым… Через день-два я оказался вновь при их “пятиминутном” разговоре по телефону. Горбачев делал комплименты, упрашивал, уговаривал: “Подожди, Борис, не горячись, разберемся. Дело идет к 70-летию Октября. Москва здесь заглавная. Надо хорошо подготовиться и достойно провести. Предстоит сказать и сделать важные вещи в связи с этим юбилеем. Работай, давай как следует проведем это мероприятие. Потом разберемся. Я прошу тебя не поднимать этого вопроса (об отставке)”. Положив трубку, М. С. сказал мне: “Уломал-таки, договорились, что до праздников он не будет нервничать, гоношиться”».
«Ельцин утверждал, что понял его слова иначе. “Позже”, думал он, означало дня два, три, максимум неделю: все-таки не каждый день члены Политбюро уходят в отставку. Но прошла неделя, потом другая. Горбачев молчал» (Леон Арон).
На пленуме ЦК КПСС, который состоялся 21 октября 1987 года, Горбачев прочел доклад, посвященный семидесятилетию Октябрьской революции.
Это был единственный пункт повестки дня.
Ельцин поднял руку.
«Председательствующий т. Лигачев. Товарищи! Таким образом, доклад окончен. Возможно, у кого-нибудь будут вопросы? Пожалуйста. Нет вопросов? Если нет вопросов, то нам надо посоветоваться.
Горбачев. У товарища Ельцина есть вопрос.
Председательствующий т. Лигачев. Тогда давайте посоветуемся. Есть нам необходимость открывать прения?